Жернова. 1918–1953. Клетка - [17]
Они затопили каменку дровами, предусмотрительно припасенными еще в прошлом году, наносили воды в бочку и в ведра, сгребли в кучу весь мусор и побросали в огонь, потому что Плошкин строго-настрого запретил им выбрасывать из избы даже рыбью чешую и кости, чтоб не оставлять никаких следов; до белизны выскребли стол и лавки, помыли пол и почистили закопченные оконца.
Потом спустились к ручью, прошли по нему метров сто, свернули в небольшой распадок и там наломали веток багульника и пихты — для кипячения в воде к предстоящей нынешним вечером бане: Плошкин заверил, что если помыться таким отваром, то враз исчезнут все болячки и чирьи.
То Пакус, то Каменский, то Гоглидзе время от времени отходили из приличия к ручью и присаживались над бегущей водой по крайней нужде: после жирной рыбы всех одолел понос. Но Плошкин сказал, что это временно, дня на два, на три, а потом, когда попривыкнут к пище, все наладится, и они безоговорочно этому поверили, потому что все, что они делали по приказанию своего бригадира, не только подтверждало его над ними неограниченную власть, но было наполнено целесообразностью, над очевидностью которой не приходилось даже задумываться. Тем более что тюрьмы и лагеря отучили их задумываться над чем бы то ни было: мыслительный процесс потерял свое значение, к тому же требовал сил. Наконец, они разучились желать и чувствовать: все желания и чувства подавило одно желание — есть, одно чувство — чувство голода и усталости.
Сейчас пищи было много. Каждый мог взять со стола кусок лососины, мог выпить кружку жирного и пахучего бульона, и они пользовались этой возможностью. Но не потому, что испытывали голод, а потому, что была пища, которую нельзя не есть. В лагере они всегда съедали все, что им доставалось, не оставляя на потом, потому что пищу могли украсть или отнять, потому что, наконец, можно внезапно умереть, так и не съев свой последний кусок.
И Каменский, и Пакус, и Гоглидзе двигались медленно, часто присаживаясь и отдыхая, иногда ложась, но все-таки двигались и двигались, делая то одно, то другое, скорее, не столько из боязни наказания — какое мог придумать им наказание бригадир, если бы они что-то не успели сделать? — а из чувства неловкости перед ушедшими на промысел, неловкости, которая была из того мира, где жили родные и близкие им люди, где они сами были свободны, где было много еды и красивых женщин, где не нужно было работать до изнеможения, — неловкости, ненужной и вредной в их недавней жизни.
За почти целый день каждый из них произнес едва ли десяток слов. Тут, во-первых, властвовала над ними неприязнь друг к другу, существовавшая бог знает с каких времен и усиленная утренним спором; во-вторых, говорить вроде было некогда.
Между тем каждый из них затевал иногда внутренний спор со своим воображаемым противником, но, произнеся мысленно несколько слов, тут же терял нить рассуждения и отвлекался на что-то вещественное: на веник ли, на топор, на дрова или рыбу. Да мало ли на что! Их просто поглотила мелочная насущность, она казалась им столь важной, что все усилия их истощенного мозга были направлены на нее — на исполнение этой насущности, и когда что-то удавалось завершить, они испытывали удовлетворение, давно ими позабытое.
И все же тревога держалась в них, сковывала их, утомляла больше самой тяжелой работы, искала выхода. Меньше эта тревога обнаруживалась у Гоглидзе, больше — у Каменского, и совсем не была видна на ничего не выражающем лобастом лице Пакуса.
Когда то немногое, что велел бригадир, было сделано, Каменский с Пакусом сели за стол, выскобленный до бела; к ним на этот раз, что-то поборов в себе, присоединился и Гоглидзе. Они лениво пожевали рыбы, глотнули бульона. Все трое чувствовали себя разбитыми, измочаленными, все ожидали какого-то резкого поворота в том положении, в котором они очутились, хотя и так — куда уж резче? — и каждый подозревал другого в неискренности и тайных помыслах.
После еды Пакус прилег на лавку, на которой спал бригадир, Каменский последовал его примеру, заняв свою лавку, молча освобожденную грузином, перебравшимся к печке.
Бывший адвокат, бывший профессор права Казанского университета, оказавшийся в этих краях по милости Григория Евсеевича Зиновьева, поворочался немного, покряхтел, повздыхал, сел. Для него говорение было профессией, он истосковался по слову, по умному собеседнику, но главное — положение у них было таково, что без обсуждения этого положения дальше существовать становилось просто невыносимо. Утренний разговор, грубо прерванный Плошкиным на самом, можно сказать, интересном месте, только разбередил профессорскую душу, ни капельки ее не удовлетворив.
Конечно, Пакус с грузином — не те собеседники, которых жаждала профессорская душа, но все же лучше, чем Плошкин и мальчишки, вообще ничего не смыслящие в умном и аргументированном слове.
— Вы не находите… э-э… — начал Каменский, ни к кому не обращаясь, — что мы с вами очутились в весьма двусмысленном положении?
Произнеся эту фразу, он вгляделся в темный силуэт Пакуса, неподвижно лежащего на лавке по другую сторону стола.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
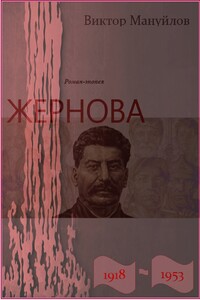
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
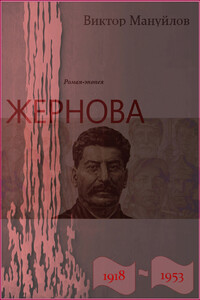
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.
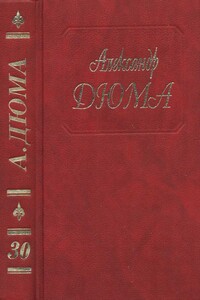
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Привет тебе, любитель чтения. Не советуем тебе открывать «Реквием» утром перед выходом на работу, можешь существенно опоздать. Кто способен читать между строк, может уловить, что важное в своем непосредственном проявлении становится собственной противоположностью. Очевидно-то, что актуальность не теряется с годами, и на такой доброй морали строится мир и в наши дни, и в былые времена, и в будущих эпохах и цивилизациях. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации.
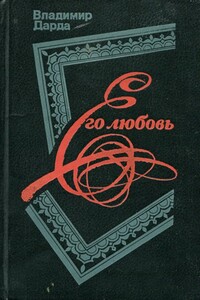
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
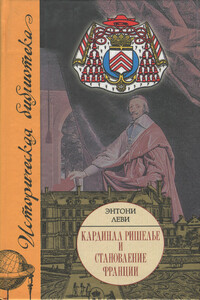
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.
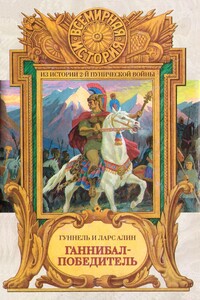
Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.
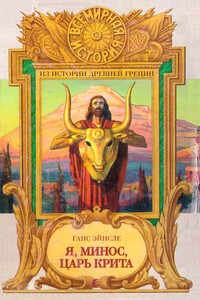
Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.
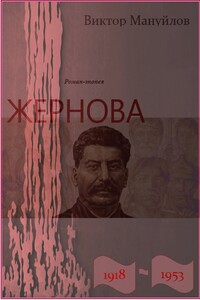
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
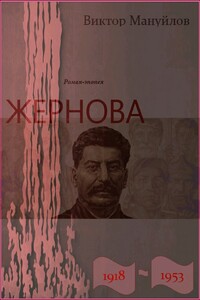
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…
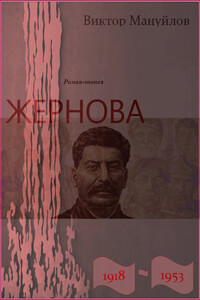
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.