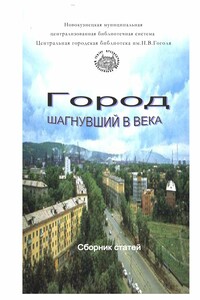Западный канон - [29]
Мольер, родившийся спустя всего шесть лет после смерти Шекспира, писал и играл во Франции, еще не испытавшей Шекспирова влияния. Разноречивые отзывы о Шекспире во Франции начали складываться в единую картину где-то в середине XVIII века, почти через три поколения после Мольера. Тем не менее между Мольером и Шекспиром есть подлинное сродство, хотя Мольер вряд ли даже слышал о Шекспире. Их объединяет темперамент и свобода от всякой идеологии, притом что комедийные традиции, к которым они формально принадлежат, не слишком друг с другом согласуются. От Вольтера пошла традиция противостояния Шекспиру во имя классицизма и трагедий Расина. В эпоху запоздалого французского романтизма французская литература пережила сильное Шекспирово влияние, особенно сказавшееся в творчестве Стендаля и Виктора Гюго; но к последней трети XIX века повальная мода на Шекспира в целом сошла на нет. Хотя сейчас во Франции его играют немногим меньше, чем Мольера и Расина, можно сказать, что картезианская традиция возобладала и французская литературная культура остается относительно нешекспировской.
Трудно переоценить длительное воздействие Шекспира на немцев, включая Гёте, который так остерегался влияний. Мандзони, главный итальянский романист XIX века, — в огромной степени шекспирианец, как и Леопарди. И, как бы яростно ни спорил с Шекспиром Толстой, два его великих романа и поздний шедевр, повесть «Хаджи-Мурат», выстроены на шекспировском представлении о характере. Достоевский явно обязан своими грандиозными нигилистами их Шекспировым предшественникам, Яго с Эдмундом, а Пушкину и Тургеневу принадлежат одни из важнейших суждений о Шекспире в XIX веке. Ибсен делал все возможное и невозможное, чтобы уйти от Шекспира, но, к счастью для себя самого, не преуспел. Возможно, единственное, что есть общего у Пер Гюнта и Гедды Габлер, — это их Шекспирова энергичность, их вдохновенная способность меняться, слыша себя со стороны.
Испания до недавних пор не слишком нуждалось в Шекспире. Главные величины испанского Золотого века — Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Рохас, Гонгора — сообщили испанской литературе барочную чрезмерность, в которой уже было нечто шекспировское и романтическое. Первые значимые тексты — это знаменитое эссе Ортеги-и-Гассета о Шейлоке и книга Мадарьяги о Гамлете; оба автора заключают, что эпоха Шекспира — это и эпоха Испании. К сожалению, до нас не дошла пьеса «Карденио», в которой Шекспир и Флетчер пересказали для английского зрителя один сюжет из Сервантеса; но многие исследователи чувствовали, что между Сервантесом и Шекспиром есть родство — и мне отчаянно не хватает нового гениального драматурга, который смог бы вывести на одну сцену Дон Кихота, Санчо Пансу и Фальстафа.
Влияние Шекспира на нашу Хаотическую эпоху — прежде всего на Джойса и Беккета — по-прежнему убедительно. И «Улисс», и «Эндшпиль» — по сути, шекспирианские вещи: в обеих по-разному является Гамлет. В эпоху американского Возрождения[98] Шекспир заметнее всего присутствует в «Моби Дике» и «Представителях человечества» Эмерсона, но тоньше подействовал на Готорна. Пределов влиянию Шекспира поставить нельзя, но не влияние причиной тому, что он поместился в центре Западного канона. Если Сервантеса можно назвать изобретателем литературной иронии двусмысленности, восторжествовавшей затем у Кафки, то в Шекспире можно с тем же основанием увидеть изобретателя эмотивной и когнитивной иронии амбивалентности, задавшей тон работ Фрейда. Я испытываю с каждым разом все более сильное потрясение, когда вижу, как оригинальность Фрейда улетучивается в присутствии Шекспира, но Шекспира это не потрясло бы: он понимал, что литература и плагиат почти неотличимы друг от друга. Плагиат — понятие юридическое, а не литературное; точно так же понятия «священного» и «светского» относятся к религиозной и политической сферам и в качестве литературных категорий не существуют.
Подлинная универсальность — черта очень немногих западных писателей: Шекспира, Данте, Сервантеса, возможно, Толстого. Гёте и Мильтон потускнели из-за культурных перемен; такой доступный на поверхностном уровне Уитмен в глубине своей герметичен; Мольера и Ибсена все еще играют, но первым всегда идет Шекспир. Дикинсон необычайно сложна из-за своей когнитивной самобытности, а Неруда — не совсем тот брехтианско-шекспирианский популист, каким, возможно, намеревался стать. Аристократическая универсальность Данте положила начало эпохе величайших западных писателей, от Петрарки до Гёльдерлина; но полной всечеловечности достигли лишь Сервантес с Шекспиром — популисты в величайшую из аристократических эпох. В Демократическую эпоху ближе всего к универсальности было несовершенное чудо — творчество Толстого, одновременно аристократа и популиста. В наше хаотическое время Джойс и Беккет подошли к универсальности ближе других, но первому препятствуют его барочные изыски, а второму — его барочные лакуны. В мироощущении Пруста и Кафки есть странность Данте. Я соглашаюсь с Антонио Гарсиа-Беррио, который считает универсальность фундаментальным свойством поэтической ценности. Служить центром Канона для поэтов было и остается задачей Данте. Шекспир и «Дон Кихот» служат центром Канона для широкого читателя. Вероятно, мы можем пойти дальше; для Шекспира нужен более борхесовский термин, чем «универсальность». Одновременно никто и каждый, ничто и все, Шекспир и есть Западный канон.

В брошюре в популярной форме вскрыты причины появления и бытования антисемитизма, показана его реакционная сущность.
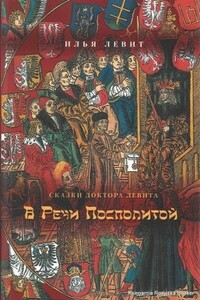
«В Речи Посполитой» — третья книга из серии «Сказки доктора Левита». Как и две предыдущие — «Беспокойные герои» («Гешарим», 2004) и «От Андалусии до Нью-Йорка» («Ретро», 2007) — эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора евреи Речи Посполитой — средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона: поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других.

Монография посвящена одной из ключевых фигур во французской национальной истории, а также в истории западноевропейского Средневековья в целом — Жанне д’Арк. Впервые в мировой историографии речь идет об изучении становления мифа о святой Орлеанской Деве на протяжении почти пяти веков: с момента ее появления на исторической сцене в 1429 г. вплоть до рубежа XIX–XX вв. Исследование процесса превращения Жанны д’Арк в национальную святую, сочетавшего в себе ее «реальную» и мифологизированную истории, призвано раскрыть как особенности политической культуры Западной Европы конца Средневековья и Нового времени, так и становление понятия святости в XV–XIX вв. Работа основана на большом корпусе источников: материалах судебных процессов, трактатах теологов и юристов, хрониках XV в.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.