Западный канон - [30]
3. Странность Данте: Улисс и Беатриче
«Новые истористы» и союзные им люди ресентимента пытались и пытаются принизить и умалить Шекспира — они стремятся ликвидировать Канон, «размыв» его центр. Удивительно, но Данте, второй, так сказать, его центр, не подвергается такому приступу — ни у нас, ни в Италии. Несомненно, штурм еще впереди, так как разномастным мультикультуралистам непросто будет сыскать более предосудительного великого поэта, чем Данте, чей необузданный и могучий дух в высшей степени неполиткорректен. Данте — самый агрессивный и воинственный из главных западных писателей: в этом смысле он умаляет даже Мильтона. Подобно Мильтону, он был сам себе политическая партия и секта. Его еретический пыл был завуалирован учеными толкователями, даже лучшие из которых зачастую подходят к нему так, словно его «Божественная комедия» — это, по сути, «Исповедь» Блаженного Августина в стихах. Но лучше всего будет начать с обозначения его потрясающей дерзости, равной которой нет во всей традиции предположительно христианской литературы, даже считая Мильтона.
В западной литературе на всей ее солидной протяженности, от Яхвиста с Гомером до Джойса с Беккетом, нет ничего столь же возвышенно возмутительного, сколь возвеличение Данте Беатриче — образа вожделения, облагороженного до ангелического качества, в котором она становится важнейшим элементом христианской иерархии спасения. Поскольку поначалу Беатриче имеет значение лишь как инструмент Дантевой воли, ее апофеоз непременно предполагает также божественное избранничество самого Данте. Его поэма — это пророчество, призванное выполнять функцию третьего Завета, ни в коей мере не подчиненного ни Ветхому, ни Новому. Данте не признает «Комедию» вымыслом, своим превосходным вымыслом. Нет, эта поэма — правда, для всех и навеки. То, что пилигрим Данте видит, а поэт Данте описывает, должно раз и навсегда убедить нас в том, что значение Данте для поэзии и религии непреложно. Знаки смирения в поэме — и со стороны пилигрима, и со стороны поэта — впечатляют исследователей творчества Данте, но они гораздо менее убедительны, чем содержащиеся в поэме ниспровержение всех прочих поэтов и настойчивые указания на апокалиптический потенциал самого Данте.
Спешу пояснить: эти соображения направлены против большой части исследований о Данте, отнюдь не против него самого. Я не понимаю, как можно отъединить подавляющую поэтическую силу Данте от его духовных притязаний, которые, разумеется, суть специфическая его черта и не являются кощунственными лишь потому, что Данте выиграл пари у будущего уже через поколение после своей смерти. Не будь «Комедия» единственным подлинным соперником сочинений Шекспира в поэтическом соревновании, Беатриче была бы оскорблением для церкви и даже для писателей-католиков. Эта поэма слишком сильна, чтобы от нее открещиваться; для ново-христианского поэта вроде Т. С. Элиота «Комедия» — это еще одно Писание, Новейший Завет, дополняющий каноническую христианскую Библию. Чарльз Уильямс, гуру для таких неохристиан, как Элиот, К. С. Льюис, У. X. Оден, Дороти Сэйерс, Дж. Р. Р. Толкин и прочие, заявил даже, что Афанасьевский символ веры с его восхождением человеческой сущности к Богу был полностью выражен лишь у Данте. Церкви пришлось дожидаться Данте и образа Беатриче.
В своем страстном исследовании «Образ Беатриче» (1943) Уильямс выводит на первый план невероятную скандальность достижения Данте: самое выдающееся творение поэта — это Беатриче. Ни одного персонажа Шекспира, даже харизматичного Гамлета или богоподобного Лира, нельзя назвать таким неудержимо дерзновенным творением, как ее. Более удивительны и возвышенны только изображения Яхве у J и Иисуса в Евангелии от Марка. Беатриче — эмблема самобытности Данте, и, торжественно водворив ее в структуру христианского представления о спасении души, ее поэт самым дерзким образом преобразовал унаследованную им веру в нечто куда более индивидуальное.
Исследователи творчества Данте, разумеется, отвергают мои утверждения такого рода, но они живут в тени своего предмета и потому часто перестают осознавать всю странность «Божественной комедии». Это — по-прежнему диковиннейшее литературное произведение, с которым только может встретиться притязательный читатель; оно выдерживает и перевод, и груз своей учености. Все то, что позволяет обыкновенному читателю[99] читать «Комедию», проистекает из таких свойств духа Данте, которые никак не отнесешь к благочестию в привычном понимании этого слова. По большому счету, Данте не может сказать ничего действительно хорошего ни об одном поэте-предшественнике или современнике и замечательно обходится почти без Библии, за исключением Псалмов. Такое впечатление, что он считал царя Давида, предка Христа, единственным достойным себя предшественником, единственным, кроме себя, поэтом, способным неуклонно высказывать правду.
Впервые взявшийся за «Божественную комедию» читатель очень быстро поймет, что ни один светский автор, кроме Данте, не убежден так глубоко в том, что его сочинение — правда, самая важная правда. Мильтон и, возможно, поздний Толстой почти достигают дантовской яростной убежденности в своей правоте, но они при этом отражают также «альтернативные» обстоятельства, в их текстах больше напряжения, причина которого — обособленность их картины мира. Данте так силен — риторически, психологически, духовно, — что на его фоне их уверенность в себе оказывается умалена. Теология для него — не повелительница, но средство, одно средство из многих. Никто не может отрицать, что Данте — мистик, христианин и богослов, или по крайней мере аллегорист-богослов. Но у Данте, единственного поэта, чьи самобытность, изобретательность и сверхъестественная плодовитость по-настоящему соперничают с шекспировскими, все общепризнанные понятия и образы проходят необыкновенное преобразование. Читатель, который впервые вчитывается в «Божественную комедию» в переводе терцинами, так удавшемся Лоренсу Биньону, или в ясном прозаическом переводе Джона Синклера, безмерно много теряет оттого, что читает поэму не по-итальянски — и все же ему остается целый космос. Но важнее всего странность и возвышенность того, что ему остается, сила Данте, которая совершенно уникальна, если не считать Шекспира. Как и у Шекспира, у Данте мы видим исключительную когнитивную мощь в сочетании с изобретательностью, практически не имеющей границ.
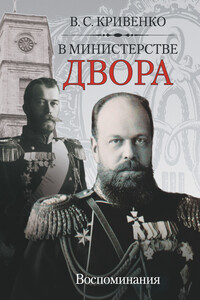
«Последние полтора десятка лет ознаменовались небывалой по своему масштабу публикацией мемуаров, отражающих историю России XIX — начала XX в. Среди их авторов появляются и незаслуженно забытые деятели, имена которых мало что скажут современному, даже вполне осведомленному читателю. К числу таких деятелей можно отнести и Василия Силовича Кривенко, чье мемуарное наследие представлено в полном объеме впервые только в данном издании. Большое научное значение наследия В. С. Кривенко определяется несколькими обстоятельствами…».

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.
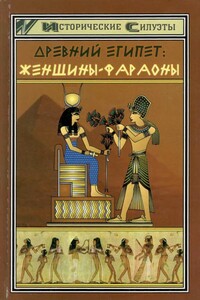
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
