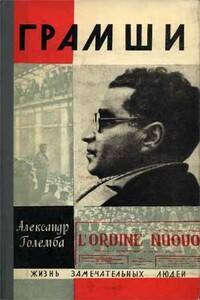Я человек эпохи Миннезанга - [19]
«В вагонах длинных люди ездят…»
ВОЗДУХ
«Незаметно движется время…»
«Это по Гюйгенсу, по Христиану…»
В ПЕРЕУЛКЕ ИМЕНИ ПАНТОФЕЛЬ
«Не все, не все слова освоены…»
«Завершается путь всякой плоти…»
«Луна над кофейней, луна над кавярной…»
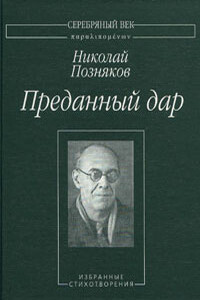
Случайная фраза, сказанная Мариной Цветаевой на допросе во французской полиции в 1937 г., навела исследователей на имя Николая Познякова - поэта, учившегося в московской Поливановской гимназии не только с Сергеем Эфроном, но и с В.Шершеневчем и С.Шервинским. Позняков - участник альманаха "Круговая чаша" (1913); во время войны работал в Красном Кресте; позже попал в эмиграцию, где издал поэтический сборник, а еще... стал советским агентом, фотографом, "парижской явкой". Как Цветаева и Эфрон, в конце 1930-х гг.

Творчество Григория Яковлевича Ширмана (1898–1956), очень ярко заявившего о себе в середине 1920-х гг., осталось не понято и не принято современниками. Талантливый поэт, мастер сонета, Ширман уже в конце 1920-х выпал из литературы почти на 60 лет. В настоящем издании полностью переиздаются поэтические сборники Ширмана, впервые публикуется анонсировавшийся, но так и не вышедший при жизни автора сборник «Апокрифы», а также избранные стихотворения 1940–1950-х гг.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

Русский американский поэт первой волны эмиграции Георгий Голохвастов - автор многочисленных стихотворений (прежде всего - в жанре полусонета) и грандиозной поэмы "Гибель Атлантиды" (1938), изданной в России в 2008 г. В книгу вошли не изданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей Библиотеки Колумбийского университета, а также перевод "Слова о полку Игореве" и поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей "Возрождение".