Вырождение. Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века - [85]
Этот псевдосиллогизм, призванный установить логическую связь между преступностью, нравственным помешательством и эпилепсией, не маскирует, а лишь сильнее подчеркивает редукционистскую суть ломброзианства. Центростремительный характер отождествления по аналогии противостоит центробежным силам, рождающимся вследствие введения дифференцирующих категорий в изначальную концепцию атавизма[889]. «Бесструктурная структура» криминальной антропологии Ломброзо – результат постоянных (и неизменно провальных) попыток логически обосновать умозаключения по аналогии, от которых ученый не может и не хочет отказаться.
Такая динамика «Преступного человека», с научной точки зрения шизофреническая, обнажает истинную суть учения Ломброзо, которую Петер Штрассер относит к области мифологического мышления[890]. Редукционистское проведение аналогий, подрывающее любые критерии дифференциации, проистекает из «диктата тотальности», стремящегося утвердить мифологизированное представление о всецело «звериной» природе преступника[891]. Рассматривая прирожденного преступника как «дикаря, попавшего в наш цивилизованный мир»[892], Ломброзо моделирует мифологическую «тотальность», сохраняющую «символические отношения со всеми аспектами царства смятения, хаоса, зла, ночи»[893]. Вышеупомянутый подход к преступности как к естественному явлению подразумевает мифологизированную «этизацию» атавистического дикаря как воплощенного звериного начала, как проявления «природного демонизма, с самого начала пронизывающего, по мнению Ломброзо, любые проявления жизни»[894]. Таким образом, в глазах итальянского ученого преступность – это не только атавистический регресс к более ранней эволюционной стадии, но и «вторжение демонической природной стихии» в цивилизационный порядок[895].
Представление о чудовищной сущности прирожденного преступника отчетливо отразилось в ретроспективном описании «открытия» ученым атавизма при исследовании тела разбойника из Калабрии по фамилии Вилелла. Этот рассказ приводится во введении, написанном Ломброзо для английского издания книги его дочери Джины Ломброзо Ферреро «Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso» (1911):
После его [Вилеллы] смерти, наступившей одним серым, холодным ноябрьским утром, мне было поручено провести аутопсию. Вскрыв череп, я обнаружил в затылочной части, точно на том месте, где у нормального черепа имеется выступ, отчетливое углубление; я назвал его средней затылочной ямкой из‐за расположения точно посередине затылка, как у низших зверей, прежде всего грызунов. Как и в случае с животными, наличие этого углубления сопровождалось гипертрофией червя мозжечка, известного у птиц как средний мозжечок. Меня посетила не просто идея, но откровение. При виде того черепа мне, будто на просторной равнине, предстала, озаренная светом пламенеющих небес, природа преступника – атавистического существа, в котором воспроизведены свирепые инстинкты первобытного человечества и низших зверей. С анатомической точки зрения этим объяснялись громадные челюсти, высокие скулы, выступающие надбровные дуги, малочисленные линии на ладонях, огромный размер глазных орбит, оттопыренные или плотно прижатые уши, встречающиеся у преступников, дикарей и обезьян, нечувствительность к боли, чрезвычайная острота зрения, татуировки, чрезмерная леность, пристрастие к оргиям и непреодолимая жажда творить зло ради него самого, желание не только умертвить жертву, но и изуродовать труп, терзать его плоть и пить из него кровь[896].
Этот пассаж указывает (с почти избыточной отчетливостью) на мифопоэтическое измерение книги Ломброзо, черпающей тропы, риторические фигуры и повествовательные шаблоны из готической литературы и литературы ужасов[897]. Хрестоматийным примером такого «обмена образами и художественными приемами между криминологией и литературой»[898] выступает роман Б. Стокера «Дракула»: если Ломброзо описывает прирожденного преступника как вампира, то неудивительно, что граф Дракула изображается как прирожденный преступник, уничтожить которого удается лишь благодаря обращению к ломброзианской криминальной антропологии, позволяющей героям понять и спрогнозировать поведение графа[899].
Слияние концепций атавизма и вырождения – иными словами, аналогической и каузальной форм мышления – решающим образом повлияло на рассказ о преступности, ведущийся на стыке психиатрии и криминальной антропологии, о чем пойдет речь в дальнейшем. Особенно ярко мифопоэтическое измерение криминальной антропологии проявилось в жанре судебно-психиатрического анализа, в рамках которого идея преступности как атавистического зла внедряется в повествовательную схему вырождения.
Формирование концепций атавизма и врожденной преступности в российском криминологическом дискурсе 1880–1890‐х годов проходит под знаком общеевропейской бурной полемики между (французской) психиатрией и (итальянской) криминальной антропологией, развернувшейся, в частности, на международных криминально-антропологических конгрессах в Париже (1889), Брюсселе (1893) и Женеве (1896)

В одном из своих эссе Н. К. Михайловский касается некоторых особенностей прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина. Основным отличием стиля Щедрина от манеры Ф. М. Достоевского является, по мнению критика, фабульная редукция и «дедраматизация».В произведениях Достоевского самоубийства, убийства и другие преступления, занимающие центральное место в нарративе, подробно описываются и снабжаются «целым арсеналом кричащих эффектов», а у Щедрина те же самые события теряют присущий им драматизм.В более поздних исследованиях, посвященных творчеству Щедрина, также часто подчеркивается характерная для его произведений фабульная редукция.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
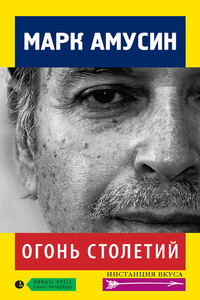
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.