Внутренний строй литературного произведения - [107]
Этот психологический портрет возникает в процессе напряженного внимания к стилю, который, по словам Максимова, в «Завещании» лишь «притворяется» прозаическим, только кажется построенным на «обнаженном», адекватном слове».[304] Чуткого читателя это «притворство» не обманывает: скрытое рвется на поверхность – «особенно в интонационных паузах стихотворения. Образуется, – обобщает ученый, – «своего рода двухголосая структура, в которой борются обе стихии: скрытое лирическое чувство и мужество»[305].
Образу лирического субъекта в «Завещании» сопутствует весьма своеобразная исследовательская широта. Примерно я определила бы ее как наличие двух разнородных ипостасей анализа. Одна предполагает обращение к целому спектру литературоведческих проблем, вторая являет собой сосредоточенность на относительно немногих, главных человеческих вопросах.
Литературоведческий центр разбора – актуальная для работы в целом мысль о степени и способах соотношения образа «простого человека» и лермонтовского лирического «я» как такового. В «Завещании», – доказывает Максимов, – расстояние между этими точками предельно сокращено; в этом плане произведение оказывается ключевым моментом в творческой эволюции поэта.
Не менее важен для ученого и вопрос более общий – проблема реализма в лирике в целом.
Максимов обращался к ней неоднократно. Он считал, что локальный лирический текст (если речь не идет о романтических крайностях) часто не содержит четких примет того или иного литературного направления. «Завещание» оказывалось в этом плане одним из показательных исключений: реализм здесь явно обнаруживает себя и в пределах текста стихотворения, и за счет его соотнесенности с близкими ему по времени создания и стилю произведениями: «Валерик», «Прощай, немытая Россия», «Родина».
Человеческий облик лирического субъекта обрисован исследователем столь точно и в то же время проникновенно, что читатель (даже если он знает стихотворение наизусть) не может не познакомиться с героем заново, не задуматься в связи с его судьбой о вопросах вечных, а значит, и собственных. Об актуальной для любой эпохи зависимости личности от хода «большой истории». И даже – о тайне самостояния – способности достойно встретить смерть, стерегущую каждого.
Именно здесь не могу не сказать и о том свойстве максимовского разбора, которое представляется мне почти чудесным. В моменты предельной глубины проникновения в душевный строй лирического героя две ипостаси анализа – теоретическая и человеческая – будто налагаются друг на друга. Причем воспринимается это как нечто вполне естественное, в сущности необходимое.
«Противовесом горьких и страшных переживаний раненого, – сказано в книге, – является «форма» стихотворения, его словарь, рифмовка, ритм, которые вбирают в себя внутреннюю стойкость, мужество умирающего человека <…>. Простотой и обыденностью своих слов, за которыми стоит дисциплинирующая сила заведенного, привычного склада жизни и которые контрастируют с торжественной темой смерти, герой как бы подавляет, заклинает свои душевные и физические страдания»[306].
Поразительно, что, будучи способным так сформулировать эти необходимейшие человеку душевные «умения», Максимов остается вполне свободным от назидательности. В нем было другое свойство, граничащее с названным, но в корне от него отличное, – серьезность высокого закала.
Дмитрий Евгеньевич как-то сам написал мне об этом в ответ на мою надпись в подаренной ему работе. Надпись, разумеется, шутливую: «Очень серьезному учителю– от хулиганствующей ученицы», Под «хулиганством» подразумевалась моя «охота к перемене мест» – броски от Достоевского к Пастернаку. Шутка неожиданно вызвала целую отповедь – принципиальную, хоть и слегка ироническую: очевидно, именно от нежелания показаться назидательным. Привожу ее полностью:
«Благодарен Вам за отнесение меня в дарственной надписи к серьезной части человеческого рода. Пожалуй, это – один из самых важных критериев. Не случайно я осмелился применить его в своей книге к характеристике символистов. Хорошие слова и даже декларации о трагизме часто были лишены у них серьезности («Да, я – поэт трагической забавы») и тем самым мало стоили. Не есть ли серьезность – начало всякого дела – жизненного, художественного, научного? (простите меня за банальный педантизм!).
Конечно, Ваша подпись «от хулиганствующей ученицы» – шутка. Если бы было иначе, я опять бы высказался от имени педанта. Сказал бы, например, что «хулиганствование» в литературе исторично и оправданно в определенные моменты истории (футуристы, Есенин), а в другие моменты, например, наше время – архаично и демоде. Если у нас есть какой-то долг перед людьми, Богом, совестью (как ни называй!), то прежде всего быть серьезными и ответственными, даже в «игре» (признак хулиганства – безответственность – сколько у нас такого!). Слава Богу, к Вам это не относится – верю в это. И надеюсь в Вашей последней статье (ее еще не читал) найти подтверждение своей веры. Ведь Вы – человек науки, которая между прочим думает об истине и в которой даже шутки ответственны»

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
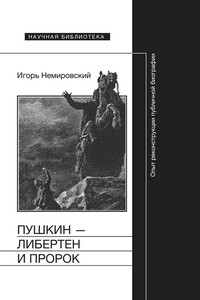
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.