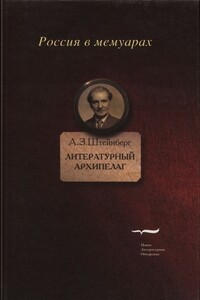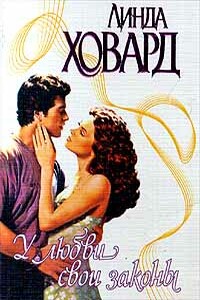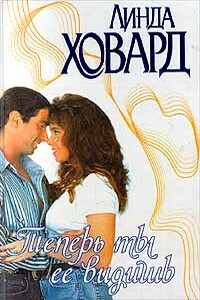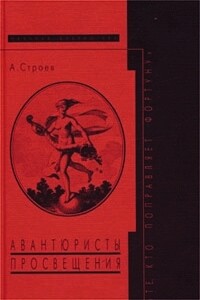A. Штейнберг
Две души Горького
Когда наша Вольная Философская ассоциация еще только зарождалась и Разумник Васильевич с карандашом в руке записывал имена кандидатов в намечающийся совет, было упомянуто также имя Максима Горького. Разумник Васильевич записал его, но тут же прибавил: "Очень сомневаюсь". Не имея ясного представления о взаимоотношениях, соперничестве и даже вражде между отдельными группировками в дореволюционной русской литературе, я позволил себе по наивности спросить: "А почему вы сомневаетесь, Разумник Васильевич?" - "А потому, - ответил он, - что у нас тут нет подходящего запаха для Горького. Алексей Максимович, да простит ему, грешному, Бог, любит когда жареным пахнет". А на вопрос Константина Александровича Эрберга, что ж Горький любит в жареном, Разумник Васильевич рассказал маленький анекдот, который не мешало бы включить и в биографию Горького, и в историю того времени: "Не помню точно, где мы встречали новый 1918-ый год, у Горького ли или в каком-то общественном учреждении, помню только, что уж после того, как мы встретили Новый Год, кто-то предложил игру: каждый из присутствующих должен был выразить в одном слове свое самое заветное стремление, написать на кусочке бумаги и бросить в вазу. Потом с большим интересом вынимали записки из вазы и читали вслух. Каждый мог подписывать или не подписывать записку по своему желанию. В одной из записок стояло слово "Власть", и оно было подписано Максимом Горьким. Как видите, Алексея Максимовича интересует власть, но не политическая, не полицейская, не дай Господь! а власть чисто духовная, основанная на духовном авторитете писателя. Максим Горький, как писатель, должен иметь такой авторитет, должен проявлять свою власть. И это для него - самое заветное стремление. Так он думал, так именно и подписал: Максим Горький, не Алексей Пешков. Мы же здесь затеваем нечто такое, что отрицает всякую власть. Поэтому я и сомневаюсь".
Надо сказать, что таким носителем власти в Москве долгое время был Брюсов, но мы знали, что Брюсов никогда бы не признался, что его самым заветным стремлением в жизни является власть. Для Брюсова, кроме того, писательская и политическая власть сливались воедино. Ведь он же приспособился и даже примкнул к партии. Бог знает, может быть, Горький так и не стал членом Коммунистической партии, но он никогда бы не сделал ни единого шага в сторону организации, которая не давала бы ему возможности расширения империи его литературной власти. А мы ведь в этом отношении анархисты. "А попробовать все-таки надо", - сказал Эрберг, швед с русской душой. Решили обратиться к Горькому и нащупать почву. А вдруг он согласится примкнуть к нам. Разумник Васильевич предложил мне взять на себя это задание: "Лучше всего, чтобы вы, Аарон Захарович, пошли к Горькому с этим предложением. Всем известно, что Алексей Максимович любит евреев". От имени создающейся ассоциации было написано письмо Горькому, и, если память мне не изменяет, подписано Мейерхольдом, так как он был вне литературы и, значит, нигде не мог столкнуться с Горьким; кроме того, его передовой театр был признан Горьким, да и связи его с Художественным театром могли повлиять на решение Горького. В письме указывалась моя фамилия, имя и отчество и просьба повидаться со мной. Ответ Алексея Максимовича был положительным, местом встречи была назначена его собственная квартира на Кронверкском проспекте 5, у самой Петропавловской крепости на Петроградской стороне. Принял он меня не только потому, что любил евреев, но и потому, что хорошо был знаком с моим покойным дядюшкой, братом моей матери, а также с моим родным братом. Сразу же после Октябрьской революции, в то короткое время, когда партия левых эсеров была в коалиции с партией большевиков, мой брат, будучи видным деятелем партии эсеров, многим помогал, хлопотал за арестованных, главным образом через врача Алексея Максимовича Горького Манухина. В своих воспоминаниях Манухин об этом упоминает. Сам Горький где-то писал об этом, а также и Шаляпин. О моем брате говорили, что это человек с гуманным сердцем.
Итак, мы встретились. Горький очень приветливо принял меня. Он был знаком с моими легковесными заметками, которые прочитал в "Русской мысли". На мой вопрос, можем ли мы надеяться на то, что он примкнет к нашей ассоциации, Горький ответил: "А я еще подумаю". Он сильно "окал". Сначала он стал расспрашивать меня подробно о членах будущего общества. Почему нет ни одного большевика среди них? Я указал на одного, который, однако, не был достаточно активным. И вдруг, то ли из любви к евреям вообще, то ли желая вознаградить меня за добрые дела моего брата, Алексей Максимович перевел разговор на мои личные дела. Жить в Петербурге тогда было вовсе нелегко. Новых приезжих в Петербурге не прописывали, а значит и хлебную карточку, без которой невозможно было прожить, не выдавали. Было ясно, что Горький хочет меня как-то устроить. Он спросил, не знаю ли я что-либо об истории еврейского народа и мог ли бы написать статью о социальной морали еврейских пророков? Я ответил, что мог бы, хотя на эту тему уже достаточно много написано, особенно в Германии. "Я считаю, что для вас это самое лучшее. Вместо всяких там академий и ассоциаций пишите-ка такую книгу. Я дам вам письмо к товарищу Ионову. Поезжайте в Смольный институт. Там вы его найдете в издательском отделе при петроградском Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Поговорите с ним о подробностях, а я ему напишу, что считаю вас очень подходящим автором". Я согласился, но позже стал сомневаться, уместно ли мне популяризировать нечто общеизвестное. Однако, чем же театральный отдел хуже или лучше издательского отдела Ионова? Я поехал в Смольный с письмом от Горького. Когда Ионов прочитал это письмо, он спросил меня с еврейской интонацией, хотя был русским, из питерских рабочих: "А аванс вам нужен?" - "Да, пригодится". И я получил первые керенки - деньги, выпускаемые при Керенском. Они печатались на очень плохой бумаге, на огромных листках по двадцать и сорок рублей. Таким образом я заработал и на юдофильстве Горького, и на знании пророков в оригинале, полученном мною в раннем детстве. Замечание Алексея Максимовича, что мне лучше писать о еврейских пророках, чем всякими философскими академиями заниматься, дало мне возможность понять, что он не даст нашей ассоциации положительного ответа. А когда я рассказал Разумнику Васильевичу о нашей беседе, он, как бы с упреком, заметил: "Вот видите, я же вам говорил, что Горький любит евреев". Может быть, и правильный упрек... Когда Алексей Максимович так хорошо отозвался о моем дядюшке и брате, мне почему-то показалось, что он как бы считает себя близким мне, чуть ли не родственником. Беседа эта с ним открыла и показала мне одну душу Горького. Это была душа, почитавшая евреев, - значит, душа с совестью.