Внутренний строй литературного произведения - [108]
В той серьезности, с которой Дмитрий Евгеньевич славил серьезность, было что-то почти наивное. Думаю, именно эта наивность предохранила его от качества, о котором мне говорили многие очень талантливые молодые литературоведы. Они жаловались на собственную неспособность видеть в литературных героях – не только лирических, «эскизных», но и вполне обыденных, эпических – действительных людей. Максимов не просто обладал этим умением, его острота (как это можно судить хотя бы по разбору «Завещания») была поразительной, едва ли не детской, (Правда, в его сознании существовал и обратный перевод – с языка жизни на язык литературы, но об этом я скажу позднее.) Именно эта острота придавала его работам их неповторимую тональность – ощущение живой теплоты, что ни в коей мере не сказывалось на их строгой научности.
Отдельную, достаточно грустную для меня тему представляет история моего восприятия собственной лирики Максимова. Если наше человеческое и даже научное взаимопонимание в главных его моментах наладилось достаточно быстро, то отчужденности по отношению к собственным его стихам я не могла преодолеть до конца его жизни. Честно сказать, во многом не преодолела и сейчас.
Меня пугала, почти отталкивала гротескная мрачность его лирического видения. Дмитрий Евгеньевич признавал человеческое право на такое отношение к его стихам, но, конечно, огорчался: в его душе эти причудливые миниатюры занимали немалое место.
Подробнее я писала о наших разговорах по поводу его стихов в другой работе; сейчас же хочу только проиллюстрировать максимовский творческий процесс на примере одного стихотворения.
Привожу и это стихотворение, и рассказ Максимова об его предыстории.
В один из моих приходов Дмитрий Евгеньевич показал мне через окно своей комнаты дом, стоявший напротив, по другой стороне улицы. Там, в чердачном оконце, обычно темном, в иные ночи появлялся огонек. Происходящее казалось загадочным, почти жутким. Хотя, по-видимому, в основе своей имело какие-то вполне реальные причины. Максимову оно дало повод для следующего стихотворения:
Свет на чердаке
Памяти Франца Кафки
Помню, меня сразу задело безнадежное: «…И Божье воинство напрасно не зови». Позже, как показалось, прояснился смысл посвящения «памяти Кафки».
Думаю, впечатление, которое можно было бы истолковать полярным образом – как нечто сугубо прагматическое (сборище бомжей, жуликов) либо как укол, прикосновение мистического ужаса (но, по-моему, в мгновения таких прикосновений стихи не пишутся!), Дмитрий Евгеньевич принял литературно. Такой перевод с языка жизни на язык литературы я и упоминала недавно. Отсюда, на мой взгляд, и соединение в одном тексте разнородных понятий: подвальных крыс (в Питере их всегда было множество) и палача, выбирающего жертву, древней пентаграммы и ощущения кафкианской обреченности перед лицом иррационального зла.
Это стихотворение я не то чтобы полюбила, – скорее, очень запомнила. Как ни странно, оно слилось с образом комнаты Дмитрия Евгеньевича – места, где мне было всегда хорошо, – о каких бы «мрачностях» мы с ним ни заговаривали.
Сама же литературность причудливого впечатления, оформившегося в стихах, сегодня наводит меня на странную мысль (не стану настаивать на ее истинности, но высказать все же решусь). Не были ли для Максимова поэзия и жизненная реальность двумя ипостасями чего-то в принципе единого – сферами, грань между которыми по временам почти стиралась?
2006
«Больше всего боюсь беспамятства…» (О Дмитрии Евгеньевиче Максимове)
Я знала Дмитрия Евгеньевича много лет. С 1957 года до конца его жизни. Рассказать о таком объемном временном промежутке, о событиях, в него вместившихся, встречах и разговорах, имевших для меня значение поистине определяющее, «вспомнить» обо всем этом «в один присест» вряд ли возможно, во всяком случае для меня. Но и отмалчиваться – грех, в самом точном смысле этого слова. У Дмитрия Евгеньевича, лишенного ортодоксальной религиозности (а может быть, свободного от нее) к памяти было отношение особенное. В ней ему виделось что-то вроде ниточки спасения. В одном из его писем ко мне есть такие слова (они написаны в приписке, сбоку, как нечто осенившее внезапно, но присутствующее в сознании всегда): «Помните, память– наша соломинка. Ею жив мир, без нее – хаос, провал, смерть. Больше всего боюсь беспамятства!»
Следуя этому приказанию (или мольбе?), попытаюсь рассказать, «не мудрствуя лукаво» про то о чем помнится. Не хочу отстраняться от подробностей, но изберу облегчающий задачу компромисс: говорить буду не обо всем периоде нашего знакомства, а по преимуществу о первом его этапе – времени, когда Максимов взял меня в аспирантуру, и о том, как «воспитывал» в первые месяцы аспирантской жизни. Для меня это «взятие» оказалось событием, фантастически изменившим главные линии судьбы. Для него же это был поступок значимый, но не экстраординарный, что называется характерный: он дает представление о его личности в целом. Это до какой-то степени оправдывает мое желание рассказать о происшедшем, уменьшает угрозу, всегда стерегущую мемуаристов, – опасность собственной тенью заслонить лицо того, кому воспоминания посвящены. Уменьшает, но, к сожалению, не снимает ее начисто. Несколько предваряющих слов о себе лично сказать все же придется: без них не будет ясно дальнейшее.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
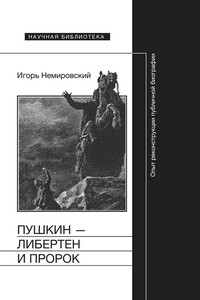
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.