Внутренний строй литературного произведения - [109]
Я выросла в большом южном городе – Ростове-на-Дону. В 1954 году закончила педагогический институт, а затем три года работала по назначению учителем в селе, лежащем за 24 км от железной дороги. Там и пригрезилось мне поступать в аспирантуру. Ленинградский пединститут имени Покровского выбрала по причине наименьшей его известности (все же не Москва, не ЛГУ, не Герценовский). Была почти убеждена: шансов на поступление у меня никаких. Убеждена не без оснований: в Ростовском пединституте в те веселенькие времена учили анекдотически скверно. Максимов, однако, отнесся к незнакомой «претендентке» без какого-либо заранее сложившегося предубеждения – с интересом, на редкость живым, вполне непосредственным.
Когда я поднялась (оставив чемоданчик у вахтера) в отдел аспирантуры Покровского пединститута, девушка, сидевшая на месте заведующей (она оказалась максимовской аспиранткой; административную должность занимала временно), сказала мне, что Дмитрию Евгеньевичу понравился мой вступительный реферат и он просит ему позвонить. Был назван номер домашнего телефона и время, удобное для звонка.
Ошалев от этих слов как от удара по голове, я вышла из здания и в ожидании назначенного часа побрела сама не зная куда. Покровский институт находился недалеко от ленинградской мечети. Улица привела к Неве – прямо к каменным львам, сидящим на набережной. В эту минуту облачное небо вдруг расчистилось; Нева стала блестяще-голубой, а мне в первый раз подумалось: «Да ведь я же могу здесь остаться!»
Чувствую, надо кое-что уточнить, – иначе картина покажется неправдоподобной.
Предложение позвонить не было со стороны Максимова беспредметной благотворительностью (хотя, при всех оговорках, оно остается проявлением редкостного отношения к человеку). Внимание Дмитрия Евгеньевича остановила тема моей вступительной работы: реферат был посвящен творчеству Александра Грина.
Здесь снова приходится сказать несколько «вводных» слов «о времени и о себе».
Грина я «открыла» в начале 50-х годов; тогда он имел статус писателя, практически запрещенного. Его мироощущение стало для меня подобием некой личностной религии. Когда в 1956 году, после десятилетнего перерыва, вышел томик с кораблем и алыми парусами на обложке, решила без малейших колебаний: реферат для аспирантуры будет посвящен трем повестям– «Алые паруса»; «Бегущая по волнам»; «Дорога никуда».
Мысль, что именно Грин – источник чуда, забросившего меня в Ленинград, держалась в моем сознании и после поступления в аспирантуру. Сейчас, конечно, над ней легко смеяться. Но по тем временам в самом этом факте действительно было много необычного. По-гриновски, значимо необычного.
Начать хотя бы с того, что институт Покровского (под его крылом цвет ленинградской филологии пережидал полосу искоренения «космополитизма») проводил в это лето свой последний прием в аспирантуру; той же осенью его должны были слить с Герценовским пединститутом. В Герценовский же, учитывая мою фамилию (пресловутый «пятый пункт»!) и «стиль времени», я бы ни при каких поворотах не поступила.
Было, однако, еще одно обстоятельство, для меня не менее важное, хотя и не связанное с высокой политикой. Я не поступила бы и в институт Покровского, если бы выбрала естественную для себя специальность – русскую литературу XIX века. Тема реферата предопределила иной профиль– литературу советскую. Это меня и спасло: на XIX век шли люди, окончившие тот же институт, т. е. подготовленные несравненно лучше, чем я; на советскую же – предельно слабые.
Все это я поняла позже. Как и то, что реальным «автором» чуда преобразившего мою жизнь, оказался не Грин (до сих пор храню признательность к его имени!), а человек, о Грине «наслышанный», но не разделявший моего молитвенного к нему отношения.
Дмитрий Евгеньевич уже в первом нашем разговоре сказал, что, с его точки зрения, повесть «Бегущая по волнам» куда интереснее, чем знаменитые «Алые паруса». Замечу, он был вполне верен собственной системе ценностей: именно «Бегущая по волнам» у Грина наиболее близка поэтике символизма.
Впрочем, об этом позднее. Конечно, суждение Дмитрия Евгеньевича моем реферате запомнилось мне как центральный момент первой нашей встречи. Но впечатления, из нее вынесенные, к нему не сводились; они вообще были шире любой «прагматики».
Самым первым стал образ, если можно так выразиться, «визуальный». Но расскажу по порядку. Максимов жил тогда на улице Декабристов. Он и его жена, Лина Яковлевна, занимали две комнаты в коммунальной квартире. На стенах его комнаты (помнится, довольно просторной) висели репродукции с картин Пикассо. Они были черно-белые, небольшие, но сделанные профессионально и тщательно, окантованные, в аккуратных рамках. Сам характер их исполнения свидетельствовал об осознанности выбора того, кто надумал украсить свое жилье столь причудливой живописью.
Почему, однако, она показалась мне более чем странной?
Чтобы это стало ясным, придется дать понятие о тогдашней моей системе ценностей. Именно системе как о чем-то вполне сложившемся, привычно устойчивом.
Мои ростовские родные были учителями литературы– хорошими, но средними; искусство в семье почиталось; передвижников воспринимали как одну из его вершин. Их картины были не то чтобы любимы (любовь личностна!), скорее непреложны, как «Мертвые души» или поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Картинки», которые я увидела у Максимова, изумляли, почти возмущали своей «неправильностью». К счастью, в нашем первом разговоре речь о них не заходила. Что значил для Дмитрия Евгеньевича Пикассо, объясню, насколько я теперь это понимаю, несколько позже. Пока же хочу сосредоточиться на первой нашей беседе. Она началась, естественно, с мнения Максимова о моем реферате.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
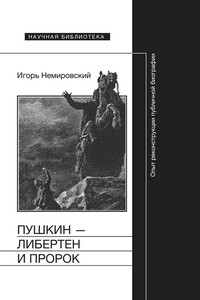
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.