Внутренний строй литературного произведения - [111]
Думаю, причины снисходительности на этот раз были не чисто педагогического свойства. Они лежали в области более глубокой, а для Максимова и несравненно более важной – в сфере мировоззрения. Его собственное отношение к ОПОЯЗу было сугубо непростым.
В молодости, как Дмитрий Евгеньевич позднее мне рассказывал, он под влиянием своего старшего брата, известного некрасоведа Евгеньева-Максимова, увлекался социологизмом. В годы зрелости это увлечение «рассосалось», оставив после себя лишь одно следствие: Максимов начисто не принимал формализм как метод исследования.
«Родимые пятна» формализма он находил даже в работах Лидии Яковлевны Гинзбург, хотя ставил их – особенно книгу «О лирике» – очень высоко. Всегда готовый «приревновать» меня к ней (в шутку и всерьез), Максимов впоследствии в качестве высшей награды за окончание диссертации договорился с Гинзбург, что на защите она будет моим оппонентом.
Но это уже события далекого будущего. Пока же – о том, что только открывало мои аспирантские будни. Дмитрий Евгеньевич засадил меня за Тынянова, поскольку – при неприятии формализма в качестве ведущего принципа – считал мэтров ОПОЯЗа мастерами высшего класса. Но, узнав о моем поражении, «простил» его – в силу всего сказанного – достаточно легко.
Между тем наступило время возвращения в Ленинград. Там встретили передряги иного порядка. Прежде всего – административные, связанные с процедурой слияния пединститутов.
Ведущие преподаватели института Покровского должны были определить для себя новое место работы. Единая кафедра литературы, где на протяжении многих лет отлично уживались специалисты разного профиля, распадалась. Наум Яковлевич Берковский и Аркадий Семенович Долинин «осели» на разных кафедрах Герценовского пединститута. Григорий Абрамович Вялый и Дмитрий Евгеньевич перешли в университет на кафедру русской литературы XIX века.
Первым следствием этой радикальной перемены в Герценовском стал «передел» аспирантов Максимова. У него их было много – с темами, в основном касавшимися советской поэзии. Начальство герценовской советской кафедры оставляло за ним только третьекурсников. По отношению к остальным вступали в силу правила невольничьего рынка. Я, однако, не желала понимать тонкостей цивилизованного обращения. В ответ на убеждения разной степени напора с тупой неизменностью твердила: «На смену научного руководителя не согласна». Реформаторы приостановились: казус, очевидно, не предполагал системы разработанных правил.
Максимов сначала следил за разворачивающимся сражением издали. Не мешал тем, кто соглашался от него уйти. Мою же серьезность, по-видимому, «проверял». Или, вернее, в те дни ему было просто не до меня; с переходом в университет для него самого начинался новый период жизни. Но, увидев, что я уцепилась за него, как утопающий, Дмитрий Евгеньевич почувствовал невозможность отстраниться от того, «кого приручил». Он не мог не попытаться мне помочь.
Чтобы сохранить за ним статус официального научного руководителя, следовало в первую очередь, перевести меня на кафедру русской литературы XIX века. Делами перевода ведало Министерство просвещения. Совсем незадолго до слияния институтов, туда был назначен новый министр – Арсеньев (по неблагодарности не запомнила его имени и отчества).
Максимов вспомнил, что в прежние времена был с ним знаком. Ни о чем просить министра он, разумеется, не хотел. Свое дело я должна была изложить сама. Он же ради повышения устойчивости, выдал мне «документ», в уникальности своей почти забавный. На небольшом плотном листке бумаги Дмитрий Евгеньевич своим клинописным почерком засвидетельствовал: такая-то (имярек) сдала экзамены в аспирантуру Института им. Покровского; далее изъяснялись причины, по которым он потерял право быть моим научным руководителем. Нод «справкой» (так она и была названа) стояли число и разборчивая подпись; о печати, понятно, не могло быть и речи. С этим «удостоверением» я и поехала в Москву.
Странно сказать, но полоса везения вдруг возобновилась. Арсеньев меня принял. Терпеливо выслушал. Прочитав – не без удивления – максимовскую «справку», он легко согласился на перевод.
В Ленинград я вернулась победительницей. На герценовской кафедре русской литературы XIX века мне дали что-то вроде автономии. Завкафедрой, Александр Иванович Груздев, на протяжении всех трех лет подчеркнуто не вмешивался в мои дела.
Началось обычное аспирантское бытие. При внешней свободе оно не было легким. Только сдача специальности содержала пять (!) экзаменов + зачет по фольклору. Однако подлинные трудности ждали меня не в этой изматывающей, но в общем ординарной работе. Они оказались неразрывными с той ролью, которой я так отчаянно добивалась, – с правом быть аспиранткой Максимова.
Уверившись, что я поступила в его распоряжение окончательно, Дмитрий Евгеньевич нашел, что наступило время заняться моим «воспитанием» всерьез. Пригласив к себе, стал «показывать» настоящую поэзию – прежде всего Пастернака, известного мне по тем временам не более, чем Пикассо.
Читал Максимов в своеобразной манере – внелогически, отдаваясь ритму стиха и акцентируя этот ритм. Наверное, это было прекрасно, но восприятию не помогало. Убитая и одновременно взъерошенная чувством собственной недостаточности, я твердила: «Не понимаю», – почти после каждого стихотворения, которое Дмитрий Евгеньевич мне «дарил».

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
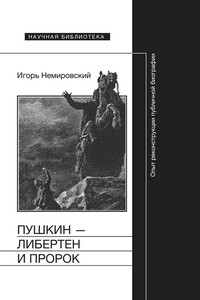
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.