Внутренний строй литературного произведения - [112]
Здесь следует сказать несколько слов об общем отношении Максимова к стихам, которые он столь самозабвенно читал.
Поэзия Пастернака и Пикассо, развешенный на стенах, представляли как бы два полюса его мироощущения.
Впоследствии я узнала, что Дмитрий Евгеньевич сам всю жизнь пишет стихи. Причем совсем не в пастернаковской манере. В молодости он был близок к кружку обериутов. В ту пору, когда мое «сопротивление» Пастернаку исчезло без следа, Дмитрий Евгеньевич начал показывать мне «собственное». Испуганная гротескной мрачностью его поэзии, я принялась, как выражался Максимов, «корить его Пастернаком». На эти «укоризны» Дмитрий Евгеньевич отвечал вполне серьезно. Он понимал, что речь идет не об уровне поэзии, а об ее эмоциональном смысле. Один из его ответов содержит письмо, публикуемое ниже. Другой – устный – попытаюсь изложить приблизительно.
Максимов считал свои стихи и литературоведческие работы отражением разных пластов души – верхнего и скрытого, «подводного»; он видел в них нечто, чуть ли не равноправное. Его огорчала моя отстраненность от его поэзии. В общем он признавал ее возможность. И все же почти до конца жизни посылал мне в письмах новые «стишки», сопровождая эти «присылки» шутливо-ворчливыми примечаниями. Будто надеялся, что со временем я поумнею. Но – каюсь перед его памятью – этого не случилось и сегодня; отчуждение оказалось непреодолимым.
Пора, однако, вернуться к первому моему «испытанию Пастернаком». Оно оказалось не более удачным, чем проверка Тыняновым. Уговаривая меня «разоружиться» (его слово!), Дмитрий Евгеньевич повторил «показ» еще раз. Ничего не сдвинулось. Устав, Максимов рассердился и предоставил меня собственному упрямству. Тут-то стало горько. А когда пришло время утверждать тему диссертации, – почти страшно.
Воли с меня Максимов, как говорится, не снимал. Но к процессу выбора отнесся с усиленной строгостью. Я хотела заниматься анализом стихов – Дмитрий Евгеньевич больше не верил в мое право на такое занятие. Подумывала о лирике Бунина. Максимов поставил передо мной условие – мудрое и лукавое. «Сначала определите, – сказал он, – для чего Бунину нужны были стихи. Что есть в его поэзии такого, чего не дает его проза?» Ответа я не нашла; тема, естественно, отпала.
Когда я открыла для себя Баратынского, Максимов стал еще строже. Он жестко сказал мне, что для работы над стихами такого уровня нужны навыки, которыми я не владею. Я не отставала. «Докажите, что сможете», – обрезал он. Больше месяца я просидела над анализом «Разуверения». И доказала. Дмитрий Евгеньевич согласился на тему «Лирика Баратынского».
Вообще, после этого «доказательства» он вернул мне свое расположение. Неизменно звал к себе. «Сдруживал» с другими своими аспирантками. Нас троих – Галю Шабельскую, Наташу Шлионскую и меня даже прозвали «максимовскими грациями» (боюсь, не без насмешки).
Дмитрий Евгеньевич любил видеть нас вместе; для каждой из нас у него было свое «присловие». Наташе он говорил: «Но вы ведь отличная хозяйка!» Гале – «У вас ведь семья такая хорошая» (речь шла о родителях). Мне – «Таку вас же память лошадиная». Увы, сейчас она уже совсем не «лошадиная». Да и тогда вовсе не была экстраординарной. Просто Дмитрий Евгеньевич собственную память считал очень слабой. Думаю, этого никто бы не заметил, если бы не постоянные его жалобы. Он боялся внезапной забывчивости как предательского подвоха; стихи читал только с книгой в руках. Отсюда и шутливо завистливая похвала в адрес моей достаточно обыкновенной памяти.
За годы «аспирантства» от двух других «максимовских граций» я получила очень многое: не только человеческую дружбу – в ней мы были наравне; они дарили меня тем, в чем я была несравненно слабее их, – зернами бесценного опыта ленинградской жизни. Вместе с ними, потомственными ленинградками, я научилась ходить на балет, в Большой зал филармонии – на концерты Мравинского, в театр Товстоногова (видела там главные спектакли моей жизни – «Горе от ума» и «Идиот»). Все это происходило при неизменном внимании Максимова. Культурные новости обсуждались, как правило, прежде всего с ним.
При этом преподавательству как таковому Дмитрий Евгеньевич нас не учил. Он вообще не был преподавателем в традиционном смысле слова. Посмеивался над умением Григория Абрамовича Вялого очаровывать аудиторию (а это было подлинно высокое умение). Настойчиво рекомендовал ходить к Берковскому, чьи лекции считал для нас более «питательными». Сам же в отличие от Наума Яковлевича обязательный курс читать не любил; не был тем, кого можно было бы назвать «монологистом». Ему нужен был «большой диалог». Не случайно он всегда брал аспирантов; возился с ними, не жалея часов, отведенных для работы «на себя» (мою диссертацию тщательно читал, спустя десять лет после окончания аспирантского срока).
В университете его уникальным делом стал блоковский семинар. Он вел его много лет и тяжело расставался с этой работой, когда из университета пришлось уходить.
В нас, как это ни дерзко звучит, Дмитрий Евгеньевич действительно нуждался. Как в пожизненных своих собеседниках, почти «сотрудниках», если припомнить этимологию этого слова, – товарищах по труду. Не только читал наши работы, – давал читать свои и ждал развернутых отзывов. Честно сказать, это было нелегкое дело: напряженно слушая наши соображения, Максимов часто не соглашался, спорил, даже обижался – хотя и не настолько, чтобы не предложить прочитать следующую статью.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
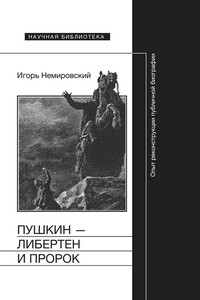
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.