В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры - [132]
Разумеется, метафоры безысходности здесь тесно связаны с метафорами преодоления, с конструкциями подвига и героической жертвы, которая была не напрасна и даже необходима:
Такая, знаете, безысходность, Вы знаете. Не то что безысходность, а такая вот необходимость этого огромного горя для того, чтобы потом это все стало хорошо, вот у меня вот такое вот было чувство. Что потом же стало хорошо. Но для того чтобы было хорошо, вот нужно было, чтобы вот столько было его, этого горя, этих несчастий (НГ).
И в то же время мои собеседники нередко подчеркивают, что говорят о «подвиге» в специфическом значении. В центре героизации и сакрализации жертв блокады в конечном счете оказывается «история про выживание» – оборотная сторона «истории про смерть». Личное, индивидуальное выживание – под которым, как правило, подразумевается не только физическое, но экзистенциальное сопротивление смерти, сохранение достоинства и смысла – расценивается как главный подвиг, совершаемый «в нежизненных условиях»:
Но чем отличается вот именно ленинградская ситуация от того же Сталинграда – там все же было много активного сопротивления, а здесь вот именно пассивная боль, когда человек ничего не может сделать… Когда мирные люди стали заложниками ситуации, и они ничего не могли изменить. А пассивность, наверное… хуже всего. Когда единственное, что ты можешь сделать, – это стараться… выжить, стараться остаться человеком… Ведь оставались же люди, тем не менее сохранились и памятники культуры, и люди продолжали работать… И ходили помогали, искали, кому еще можно помочь, – вот эти отряды ходили, которые находили детей, выживших среди мертвых родителей… это вот… это так… ну, это очень большая трагедия была… (НТ);
ОГ: Бой при всей его бесчеловечности… но это понятно, но это какая‐то такая… это целеполагание. Вот там – враг, ты бежишь, стреляешь. Это страшно, что стреляешь во врага, страшно, да? Но это как бы понятная задача. Человеку поставили задачу <…> Условия блокады или условия концлагеря – это абсолютно… бесцельная вещь. <…> Ну, как бы вот ты просто должен жить в этих нежизненных условиях. Наверное, да, наверное, блокада и лагеря для меня вот этим похожи, да.
Интервьюер: Лишением смысла?
ОГ: Да. Лишением смысла – и как можно найти смысл в этих условиях, абсолютно лишенных смысла.
Эти размышления, очевидно, относятся уже к сегодняшнему дню, однако они, по всей вероятности, генеалогически связаны с той позднесоветской интерпретацией темы Ленинградской блокады, которая была предложена в первую очередь в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича с ее вниманием к индивидуальной этике и экзистенциальной проблематике. Сильно схематизируя, можно сказать, что это внимание создавало «интеллигентский» блокадный канон, помогавший рационализировать и смягчить, с одной стороны, слишком грубую и формальную риторику коллективного героизма («Но Ленинград выжил и победил»), с другой – особое ощущение ужаса, которое, как вспоминает моя собеседница, проступало через официальную «картинку красивого залакированного подвига» (ОГ).
Чувство, что публичные образы блокадного Ленинграда – книжные, кинематографические, мемориальные – являются защитным барьером, отделяющим позднесоветского реципиента от чего‐то еще более ужасного, от абсолютного кошмара, конечно, прежде всего возникало при непосредственном столкновении с «блокадниками», с воспроизводством блокадной оптики и блокадных практик:
Для вас важно провести стандартное интервью, или вам интересны любые житейские истории, связанные с коллективным опытом горожан, связанным с блокадой? <…> одну историю могу вам рассказать. В 1967 году я поступил на факультет психологии Ленинградского университета <…> будучи иногородним, снимал комнату <…> Весной 1968 года было сильное наводнение <…> Когда я, наконец, освободился <в университете>, я заглянул в ближайшую булочную на площади Труда, чтобы купить себе еды на ужин. Шоком для меня было то, что никакого хлеба на полках не было, ни белого, ни черного… Прошло 25 лет со снятия блокады, а память в людях жива. Подействовало это на меня тогда сильнее, чем надпись на Невском и экспозиция Музея обороны Ленинграда (Комментарий в фейсбуке, оставленный под моим объявлением о поиске респондентов).
Возможно, о том же трудновербализуемом, «теневом», вытесненном из публичного пространства ужасе свидетельствует одна из участниц интервью, рассказывая, что именно в блокадном контексте ею воспринимался городской фольклор – «детские страшилки» о каннибализме:
В те времена [речь идет о начале 1960-х. – И. К.] ходили детские страшилки, они повторялись. Мне кажется, я слышала их от своих сверстниц в Подмосковье, но, кажется, происходили они именно из Ленинграда… Значит, среди этих детских страшилок одна была явно навеянная блокадной темой. Или мне так кажется, что навеянная… Значит, мама покупает на рынке пирожок и находит в начинке ленточку своей <пропавшей> дочки. Слышали такое? Ну что Вы, а в моем детстве это была популярная байка. Вообще в моем детстве таких страшилок было несколько (ЕЧ).
Такого рода «теневые» кошмары представляются мне неотъемлемой частью позднесоветского образа Ленинградской блокады. Неизбежное сочетание высокой степени идеализации и пугающего опыта, который не может быть в полной мере осмыслен и, следовательно, принят, закрепляет за блокадным Ленинградом особое место на когнитивной карте позднесоветской культуры. Я полагаю, что весьма точным указанием на это место является метафора ада, которую использует Полина Барскова в статье о блокадных утопиях.

Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.
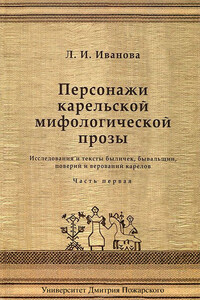
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними.

Эта книга – воспоминания знаменитого французского дизайнера Эльзы Скиапарелли. Имя ее прозвучало на весь мир, ознаменовав целую эпоху в моде. Полная приключений жизнь Скиап, как она себя называла, вплетается в историю высокой моды, в ее творчестве соединились классицизм, эксцентричность и остроумие. Каждая ее коллекция производила сенсацию, для нее не существовало ничего невозможного. Она первая создала бутик и заложила основы того, что в будущем будет именоваться prèt-á-porter. Эта книга – такое же творение Эльзы, как и ее модели, – отмечена знаком «Скиап», как все, что она делала.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».

Выдающийся деятель советского театра Б. А. Покровский рассказывает на страницах книги об особенностях профессии режиссера в оперном театре, об известных мастерах оперной сцены. Автор делится раздумьями о развитии искусства музыкального театра, о принципах новаторства на оперной сцене, о самой природе творчества в оперном театре.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.