В сетях злосчастья - [4]
— У меня был строгий приказ бригадного генерала любой ценой очистить леса до самого Бодзентина и пленных повстанцев судить на месте. Не было времени отсылать их в острог в Кельцы, да и солдат у меня было немного. Офицеры возбуждены. На меня, как на родственника, смотрят суровым, вопросительным взглядом. Приказал я немедленно созвать полевой суд, — задерживаться мы не могли, надо было преследовать шайку. Я — председательствующий, капитан Щукин, капитан Федотов — справа, поручик фон — Тауветтер и фельдфебель Евсеенко — слева. Сели мы за стол тут же, в корчме, в большой комнате. Сальная свеча горела в подсвечнике…
Генерал говорил все быстрей и невнятней, все чаще вставлял в речь русские слова, фразы, обороты; поерзав на стуле, он продолжал:
— Привели его. Шестеро солдат, он посредине. Маленький, худой, черный оборванец. Волосы взъерошены… Просто не узнать… Посмотрел я на него: Ясь, родного брата любимый сын… Я ж его выпестовал… Какие‑то отрепья на нем… Лицо поперек рассечено штыком, синее, распухшее. Ввели его, стал он у двери. Ждет. А ты, судья, суди!..
Ну, стали спрашивать по форме: как зовут? — Молчит. Смотрим мы все на него. Хороший, всеми любимый товарищ, душа человек, отличный офицер. Лицо у него стало надменное, холодног, усмешка перекосила, искривила это милое, кроткое, доброе лицо, изогнула губы, — ну, к примеру, как изгибает кузнец на огне мягкое железо, чтобы сделать крюк. Солдаты, которые его охраняли, были одновременно и свидетелями. Показывают, что поймали его в лесу, ночью, что он драЛся с ними грудь с грудыо, что он и есть их прапорщик Розлуцкий. Дело ясное, что ж тут еще говорить? Голосовать… Но тут обращается ко мне судья справа, капитан Щукин, и говорит, что хочет задать подсудимому вопрос. Ну что ж, задавай! Встал Щукин со своего места, уперся изо всех сил в стол кулаками, перегнулся к нему. Жилы у него на лбу вздулись, лицо почернело, как земля. Впился глазами в подсудимого. Ждем мы все, о чем он еще хочет его допрашивать. А Щукин между тем слова не может выговорить. Грубый был человек, необразованный. Ноздри у него раздуваются, брови нахмурились. Как стукнет он, наконец, кулаком по столу, как закричит:
«Розлуцкий! Как ты смеешь тут так дерзко стоять! Как ты смеешь смотреть на нас такими глазами! Ты присягал или нет? Что ты сделал с присягой? Отвечай! Присягал ты или нет?»
«Присягал», — говорит тот.
«Присягал? — закричал опять на всю корчму Щукин, колотя по столу кулаком. — А что ты сделал со святой присягой? Убежал из строя к врагу! Верно я говорю или нет?»
«Верно».
«Вместе с другими изменниками ты напал из засады на солдат своего монарха. Ты был главарем изменников, ты давал им самые предательские указания, ты учил их, где и как ударить на нас. Я сам видел нынче ночью, как ты дрался с солдатами своей же роты. Я свидетельствую, что видел, как солдат Денищук ранил тебя штыком. Верно я говорю или нет?»
«Верно».
«Если верно, так ты нам, честным и верным солдатам, не смей смотреть дерзко в глаза! Ты стоишь перед лицом справедливого суда! Твой собственный дядя чинит над тобой суд. Опусти глаза и склони голову, потому что ты изменник и негодяй!»
А тот ему отвечает:
«Я стою перед судом божьим. А ты можешь судить меня своим судом, как тебе угодно».
Щукин сел.
Голосуем. Два голоса за немедленную казнь— Щукин и фон — Тауветтер, два — за отсылку под конвоем в Кельцы. Мне, таким образом, пришлось перетянуть чашу весов. Ну, я и перетянул… — тихо проговорил генерал, качая головой. — Его должны уже были увести. Но тут Евсеенко спросил, нет ли у подсудимого последнего желания. Я дал ему слово. Он посмотрел на меня своими огромными ввалившимися глазами, вперил в меня свой взгляд. Мы все стояли за столом. Он подошел вплотную к столу. Смотрит мне в глаза, а я — ему. Точно два пистолетных дула приставил. Помню его суровые слова:
«Завещаю перед смертью, и это моя непоколебимая последняя воля, чтобы мой маленький шестилетний сын Петр был воспитан как поляк, таким же, как я. Завещаю, чтобы ему, даже если это будет против совести воспитателя, рассказали всё об его отце, о том, как он жил и как погиб. Завещаю ему в свой последний час трудиться на благо своей отчизны и, если придется, умереть за нее без страха и трепета, без единого вздоха сожаления, так, как я. Все».
Он отдал нам по — военному честь.
Его вывели.
День стал пробуждаться. Я ушел в боковушку, где должен был спать в эту ночь. Растворил окно. Начинало уже светать. Утро… Напротив, через дорогу, шестеро солдат торопливо рыли заступами в песке могилу. Я отошел в глубь комнаты. Отвернулся лицом к стене. Боже мой!.. Было уже светло, когда я снова подошел к окну. Я мог уже смотреть на все спокойно. На куче песка под охраной двенадцати солдат с ружьями к ноге он спокойно сидел боком ко мне. С него уже сняли повстанческую куртку. Он был в одной рубахе, разорванной на груди. Между коленями он держал, зажав в руке, маленькую карточку сына Петруся. Голова его свесилась на грудь, прядь волос упала на лоб, глаза впились в портрет сына.
Из‑за угла корчмы вышел взвод солдат из его же роты. Выстроился напротив. Командовал фон — Тауветтер. Солдаты с ружьями к ноге. Стоят. Прошла минута, вторая, третья… Жду. Жду, когда Тауветтер даст команду. Ни звука, молчание. Ни звука. Молчание. Он не может дать команду. Тот все сидел, впившись глазами в портрет. Мне почудилось, что он уже умер. На мгновение мне стало легче. Жду. Но вот он поднял голову, словно тысячепудовую тяжесть. Стал на куче песка. Ноги у него разъехались, зарываясь в сыпучий песок, но он тут же постарался стать ровно. Оглянулся, откинул волосы со лба и посмотрел на солдат. Слава богу, на лице его снова появилась та косая улыбка, то презрительное выражение, с которым он смотрел на нас на суде. Я видел, как мало — помалу принимают это выражение его лицо, глаза, лоб. Я был счастлив, что с этим выражением, с гордостью… что он Розлуцкий… Я чувствовал, как усилием воли он обращает себя в бесчувственный труп, как преображается на глазах.
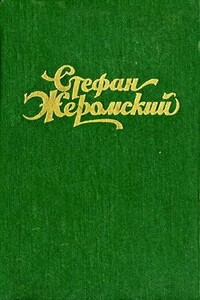
Повесть Жеромского носит автобиографический характер. В основу ее легли переживания юношеских лет писателя. Действие повести относится к 70 – 80-м годам XIX столетия, когда в Королевстве Польском после подавления национально-освободительного восстания 1863 года политика русификации принимает особо острые формы. В польских школах вводится преподавание на русском языке, польский язык остается в школьной программе как необязательный. Школа становится одним из центров русификации польской молодежи.
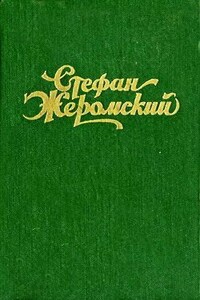
«Пепел» Стефана Жеромского – один из наиболее известных польских исторических романов, повествующих о трагедии шляхты, примкнувшей к походам Наполеона. Герой романа молодой шляхтич Рафал Ольбромский и его друг Криштоф Цедро вступают в армию, чтобы бороться за возвращение захваченных Австрией и Пруссией польских земель. Однако вместо того, чтобы сражаться за свободу родины, они вынуждены принимать участие в испанском походе Наполеона.Показывая эту кампанию как варварскую, захватническую войну, открыто сочувствующий испанскому народу писатель разоблачает имевшую хождение в польском обществе «наполеоновскую легенду» – об освободительной миссии Наполеона применительно к польскому народу.В романе показаны жизнь и быт польского общества конца XVIII – начала XIX в.
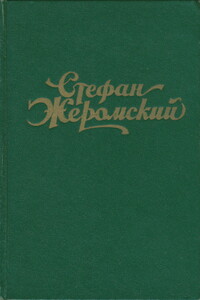
Впервые повесть напечатана в журнале «Голос», 1897, №№ 17–27, №№ 29–35, №№ 38–41. Повесть была включена в первое и второе издания сборника «Прозаические произведения» (1898, 1900). В 1904 г. издана отдельным изданием.Вернувшись в августе 1896 г. из Рапперсвиля в Польшу, Жеромский около полутора месяцев проводит в Кельцах, где пытается организовать издание прогрессивной газеты. Борьба Жеромского за осуществление этой идеи отразилась в замысле повести.На русском языке повесть под названием «Луч света» в переводе Е.
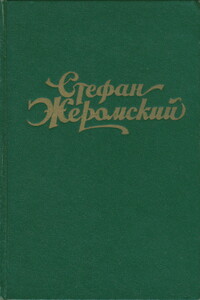
Впервые напечатан в газете «Новая реформа», Краков, 1890, №№ 160–162, за подписью Стефан Омжерский. В 1895 г. рассказ был включен в изданный в Кракове под псевдонимом Маврикия Зыха сборник «Расклюет нас воронье. Рассказы из края могил и крестов». Из II, III и IV изданий сборника (1901, 1905, 1914) «Последний» был исключен и появляется вновь в издании V, вышедшем в Варшаве в 1923 г. впервые под подлинной фамилией писателя.Рассказ был написан в феврале 1890 г. в усадьбе Лысов (Полесье), где Жеромский жил с декабря 1889 по июнь 1890 г., будучи домашним учителем.
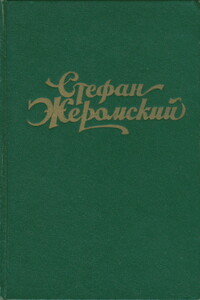
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1889, № 49, под названием «Из дневника. 1. Собачий долг» с указанием в конце: «Продолжение следует». По первоначальному замыслу этим рассказом должен был открываться задуманный Жеромским цикл «Из дневника» (см. примечание к рассказу «Забвение»).«Меня взяли в цензуре на заметку как автора «неблагонадежного»… «Собачий долг» искромсали так, что буквально ничего не осталось», — записывает Жеромский в дневнике 23. I. 1890 г. В частности, цензура не пропустила оправдывающий название конец рассказа.Легшее в основу рассказа действительное происшествие описано Жеромским в дневнике 28 января 1889 г.
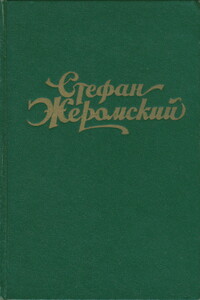
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1892, № 44. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895). На русском языке был впервые напечатан в журнале «Мир Божий», 1896, № 9. («Из жизни». Рассказы Стефана Жеромского. Перевод М. 3.)
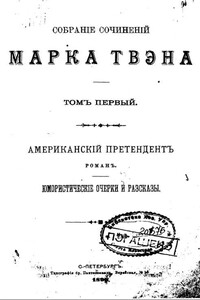
(англ. Mark Twain, настоящее имя Сэ́мюэл Лэ́нгхорн Кле́менс (англ. Samuel Langhorne Clemens) — знаменитый американский писатель.

Чарльз Джон Гаффам Диккенс (англ.Charles John Huffam Dickens; 1812—1870) — выдающийся английский писатель XIX века.
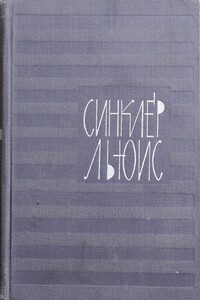
В заключительный, девятый, том вошли рассказы "Вещи", "Скорость", "Котенок и звезды", "Возница", "Письмо королевы", "Поезжай в Европу, сын мой!", "Земля", "Давайте играть в королей" (перевод Г. Островской, И. Бернштейн, И. Воскресенского, А. Ширяевой и И. Гуровой) и роман "Капкан" в переводе М. Кан.
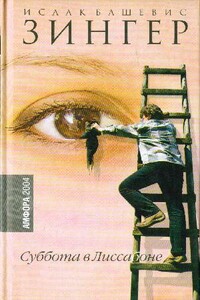
В книгу вошли рассказы нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991), представляющие творчество писателя на протяжении многих лет. Эти произведения разнообразны по сюжету и тематике, многие из них посвящены описанию тех сторон еврейской жизни, которые ушли в прошлое и теперь нам уже неизвестны. Эти непосредственные и искренние истории как нельзя лучше подтверждают ставу бесподобного рассказчика и стилиста, которой И. Б. Зингер был наделен по единодушному признанию критиков.
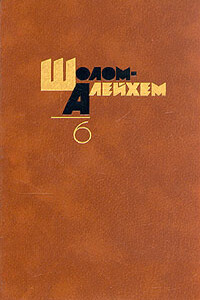
В последний том Собрания сочинений Шолом-Алейхема включены: пьесы, заметки о литературе, воспоминания из книги "Еврейские писатели", письма.
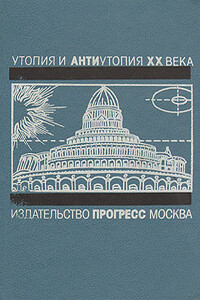
В третий том серии «Утопия и антиутопия XX века» вошли три блестящих романа — классические образцы жанра, — «Гелиополис» (1949) Эрнста Юнгера, действие которого происходит в далеком будущем, когда вечные проблемы человека и общества все еще не изжиты при том, что человечество завоевало Вселенную и обладает сверхмощным оружием; «Город за рекой» (1946) Германа Казака — экзистенциальный роман, во многом переосмысляющий мировоззрение Франца Кафки в свете истории нашего столетия; «Республика ученых» (1957) Арно Шмидта, в сатирическом плане подающего мир 2008 г.
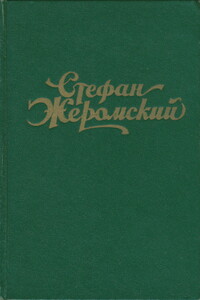
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, № 5 как новелла из цикла «Рефлексы» («После Седана», «Дурное предчувствие», «Искушение» и «Да свершится надо мной судьба»). Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895). На русском языке был напечатан в журнале «Мир Божий», 1896, № 9, перевод М. 3.
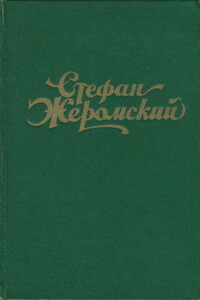
Впервые напечатан в журнале «Голос» (Варшава, 1894, №№ 9—13), в 1895 г. вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).В переводе на русский язык рассказ впервые был напечатан в журнале «Русская мысль», 1896, № 9 («Доктор химии», перев. В. Л.). Жеромский, узнав об опубликовании этого перевода, обратился к редактору журнала и переводчику рассказа В. М. Лаврову с письмом, в котором просил прислать ему номер журнала с напечатанным рассказом. Письмо Жеромского В. М. Лаврову датировано 14. X. 1896 г. (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства).
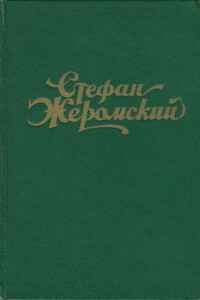
Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения», 1898 г. Журнальная публикация неизвестна.На русском языке впервые напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы», 1906, № 11, под названием «Наказание», перевод А. И. Яцимирского.
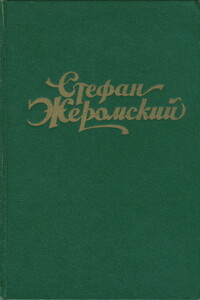
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1896, №№ 8—17 с указанием даты написания: «Люцерн, февраль 1896 года». Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения» (Варшава, 1898).Название рассказа заимствовано из известной народной песни, содержание которой поэтически передал А. Мицкевич в XII книге «Пана Тадеуша»:«И в такт сплетаются созвучья все чудесней, Передающие напев знакомой песни:Скитается солдат по свету, как бродяга, От голода и ран едва живой, бедняга, И падает у ног коня, теряя силу, И роет верный конь солдатскую могилу».(Перевод С.