Том 2. Стихи. Переводы. Переписка - [5]
410[14]
Памяти Бориса Буткевича
411[15]
412[16]
413[17]
414[18]
Белые стихи
415[19]
416[20]
Солнце
417[21]
Солнце

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

В книге впервые публикуются письма российского консула И. М. Лекса выдающемуся дипломату и общественному деятелю Н. П. Игнатьеву. Письма охватывают период 1863–1879 гг., когда Лекс служил генеральным консулом в Молдавии, а затем в Египте. В его письмах нашла отражение политическая и общественная жизнь формирующегося румынского государства, состояние Египта при хедиве Исмаиле, состояние дел в Александрийском Патриархате. Издание снабжено подробными комментариями, вступительной статьей и именным указателем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
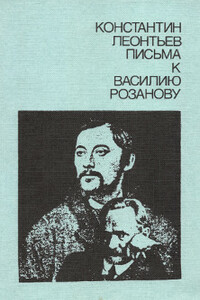
Не последнее по значению место в обширном литературном наследии писателя и мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) занимает эпистолярий, до сих пор не собранный и не изданный в полном объеме. Одним из ближайших корреспондентов в последний период жизни К. Н. Леонтьева Василий Васильевич Розанов (1856–1919). Письма к В.В. Розанову К.Н. Леонтьева были впервые опубликованы журналом «Русский вестник» (1903). Среди лиц, упоминаемых в них — Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев и К. П. Победоносцев, И. С. Аксаков и Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издательство имени Чехова, действовавшее в Нью-Йорке в 1952–1956 гг., было самым крупным книжным предприятием русского зарубежья за всю его историю. За четыре года существования оно выпустило более полутора сотен изданий, среди которых было много ценных книг.Настоящая предлагает весь сохранившийся корпус писем Г.В. Адамовича к редакторам Издательства имени Чехова Вере Александровне Александровой и Татьяне Георгиевне Терентьевой (в общей сложности 25 посланий).Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950 гг.

Русский американский поэт первой волны эмиграции Георгий Голохвастов - автор многочисленных стихотворений (прежде всего - в жанре полусонета) и грандиозной поэмы "Гибель Атлантиды" (1938), изданной в России в 2008 г. В книгу вошли не изданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей Библиотеки Колумбийского университета, а также перевод "Слова о полку Игореве" и поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей "Возрождение".

Николай Николаевич Минаев (1895–1967) – артист балета, политический преступник, виртуозный лирический поэт – за всю жизнь увидел напечатанными немногим более пятидесяти собственных стихотворений, что составляет меньше пяти процентов от чудом сохранившегося в архиве корпуса его текстов. Настоящая книга представляет читателю практически полный свод его лирики, снабженный подробными комментариями, где впервые – после десятилетий забвения – реконструируются эпизоды биографии самого Минаева и лиц из его ближайшего литературного окружения.Общая редакция, составление, подготовка текста, биографический очерк и комментарии: А.
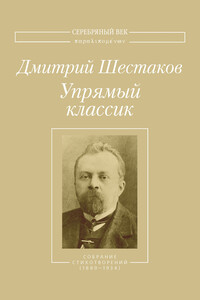
Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937) при жизни был известен как филолог-классик, переводчик и критик, хотя его первые поэтические опыты одобрил А. А. Фет. В книге с возможной полнотой собрано его оригинальное поэтическое наследие, включая наиболее значительную часть – стихотворения 1925–1934 гг., опубликованные лишь через много десятилетий после смерти автора. В основу издания легли материалы из РГБ и РГАЛИ. Около 200 стихотворений печатаются впервые.Составление и послесловие В. Э. Молодякова.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.
