Толстой и Достоевский. Противостояние - [80]
«Я» из «Записок» неоднократно заявляет, что его философия — это плод «сорока лет подполья», сорока лет, уединенно проведенных в самокопании. Здесь трудно не вспомнить о сорокалетних скитаниях народа Израиля или о сорока днях, проведенных Иисусом в пустыне. Ибо нельзя рассматривать «Записки из подполья» как нечто обособленное. Они тесно связаны с символикой и тематикой главных произведений Достоевского. Проститутку, например, зовут Лиза. В заключительной драматической сцене она сидит заплаканная на полу:
«В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но… нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением…»
Эти строчки — как заметки на полях к сцене между Лизой и Ставрогиным в «Бесах», прообраз отношений между Раскольниковым и Соней в «Преступлении и наказании». И «достоевская» символика первозданного зла в словах рассказчика тоже присутствует. Когда он спрашивает Лизу, зачем она покинула отчий дом и отправилась в бордель, та намекает на некий таинственный позор: «А коль того хуже?» Подсознательно (драматизм здесь не менее тонок и открыт к любому сдвигу смысла, чем у Шекспира) подпольный человек ухватывается за ее намек. Он признается, что будь у него дочь, то «кажется, дочь больше, чем сыновей, любил бы». Далее он рассказывает об одном отце, который «руки-ноги» своей дочери целовал. «Она ночью устанет — заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить». Это мне кажется прямой отсылкой к бальзаковскому «Отцу Горио». А за ним лежит мотив инцеста между отцом и дочерью, который — в виде истории Ченчи — увлекал Шелли, Стендаля, Лэндора[160], Суинберна, Готорна и даже Мелвилла. Рассказчик делает характерное признание о том, что не выдал бы дочь замуж:
«Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это она другого станет целовать? Чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить».
И с фрейдовским глубокомыслием заключает, что «тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется».
В «Записках» мы обнаруживаем даже следы мифа о «двойнике», который — из-за представлений Достоевского о человеческой душе — подан архаично. Ворчливый зануда Аполлон — это одновременно и слуга подпольного человека, и его безотлучная тень:
«Моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его».
И все равно — даже если мы отметили в «Записках» элементы традиционной литературы и указали на ближайшие связи «Записок» с другими произведениями Достоевского — этот текст имеет все права на то, чтобы считаться глубоко оригинальным. В нем с потрясающей точностью взяты неслыханные ранее аккорды. А по силе влияния на мысль и писательскую технику ХХ века с ним не сравнится ни одно другое произведение Достоевского.
Портрет рассказчика — сам по себе практически беспрецедентный шедевр:
«Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился».
Этот образ, откуда, очевидно, выросло «Превращение» Кафки, проводится через все повествование. Некоторые персонажи считают рассказчика чем-то вроде «самой обыкновенной мухи». Он сам описывает себя «самым гадким… из всех на земле червяков». Подобные образы сами по себе не новы, «насекомая» символика Достоевского восходит еще к Бальзаку. Но Достоевский методично и последовательно использует эти образы для «дегуманизации» и обезличивания человека — вот в чем новизна и ужас. Рассказчик сжался в своей норе, он выжидает «в своей щелочке». Его сознание заражено ощущением своей животной сущности. Древние метафоры, уподобляющие человека червям или хищникам, сравнение в «Короле Лире» человеческой смерти с истреблением мух — все это Достоевский преобразовал в психологическую реальность, в действительное состояние сознания. Трагедия подпольного человека состоит буквально в его отходе от человечества. Этот отход недвусмысленно проявлен через мучительное бессилие в его посягательстве на Лизу. Под конец его зрение проясняется:
«Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем».
Если можно выделить какой-либо главный элемент, привнесенный современной литературой в наше мировоззрение, то это — именно то самое ощущение дегуманизации.
Чем это ощущение вызвано? Возможно, оно стало результатом индустриализации жизни, принижения человеческой личности в пустой, не различающей имен монотонности промышленных процессов. В «Записках» Достоевский описывает «толпу всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами». Наряду с Энгельсом и Золя он был одним из первых, кто осознал, как фабричный труд стирает с человеческого лица индивидуальность и игру ума. Но что бы ни лежало у истоков «стыда быть человеком», этот стыд в нашем веке приобрел размеры куда более зловещие, чем те, что предвидел Достоевский. В притче «Звери» Пьер Гаскар

Эмма Смит, профессор Оксфордского университета, представляет Шекспира как провокационного и по-прежнему современного драматурга и объясняет, что делает его произведения актуальными по сей день. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Самая почитаемая фигура английской классики предстает в новом, удивительно вдохновляющем свете. На русском языке публикуется впервые.

Книга представляет собой серию очерков письменной культуры мусульманского периода истории Ирана. В отдельных ее статьях-очерках рассматриваются вопросы авторского самосознания, степени престижности научного и литературного творчества, социального статуса и функции труда поэта и его оплаты, общественного звучания и роли рукописной книги в иранском феодальном обществе.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
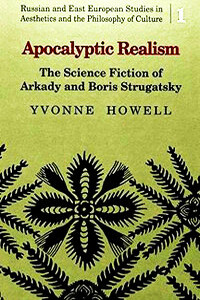
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.