Толстой и Достоевский. Противостояние - [79]
Библиография работ о психологии и психоанализе в «Записках из подполья» довольно обширна. Из всех «достоевских» «поверхностей» эта книга менее всего противится подобному подходу. Более того, убедительности придает тот факт, что «Записки» создавались в период горестных эмоциональных переживаний ее автора[157].
Однако, отдавая должное яркому обаянию «Записок» с точки зрения метафизики и психологии, нельзя пройти мимо того, как автор приспособил превалирующие литературные приемы и традиции для своих целей. Погребения заживо, спуски в гроты, погружения в водовороты или канализацию и фигура искупающей грехи проститутки — все это было общим местом в романтической мелодраме. Подполье, которое рассказчик «носит в своей душе», обладает особыми литературно-историческими интонациями, и не факт, что оно было присуще самому Достоевскому. Более того, в кратком вступлении автор говорит, что он описывает «один из характеров протекшего недавнего времени», и что его личность «явилась и должна была явиться в нашей среде». В этом смысле произведение в целом хорошо вписывается в ряд других примеров полемики Достоевского с идеями духовного нигилизма.
В конце Первой части Достоевский рассматривает проблему литературной формы. Рассказчик собирается изложить принципы абсолютной искренности: «Теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?» Это предложение перекликается со знаменитым первым абзацем «Исповеди» Руссо, и рассказчик тут же отмечает, что «по мнению Гейне, Руссо… непременно налгал на себя… и даже умышленно налгал, из тщеславия». И добавляет: «Я уверен, что Гейне прав». Присутствие Гейне в этом контексте иллюстрирует работу символического воображения: из-за своего долгого и мучительного «погребения» в Matratzengruft[158] — буквально в гробнице недуга — Гейне стал архетипом подпольного человека. В отличие от Монтеня, Челлини или Руссо,
«если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет».
Здесь используется традиционный прием для создания подобного эффекта; нас просят поверить, что рукопись, которая не предназначалась для публикации, была анонимно «переписана»[159].
Подобные претензии на приватность, разумеется, риторичны. Но в основе лежит реальная проблема. Когда подсознательное хлынуло в поэтику, и появились попытки изобразить персонаж в его разделенной целостности, классических методов нарратива оказалось недостаточно. Достоевский считал, что дилемма неадекватности формы («Исповедь» Руссо) влечет за собой более существенную дилемму неадекватности истины. Современная литература стремилась разрешить эту задачу разными способами, но ни чередование «открытой» и «приватной» речи в «Странной интерлюдии» Юджина О’Нила, ни поток сознания, доведенный до совершенства Джойсом и Германом Брохом, не нашли окончательного решения. Передаваемое на языке подсознания слишком быстро конвертируется в наш синтаксис. Возможно, мы еще не научились слушать.
«Записки из подполья» экспериментальны скорее в смысле диапазона содержания, чем в смысле смещения или углубления нарративной формы. И опять же, главенствующий метод здесь — драма: автор сжимает ход внешних происшествий, сводя их к ряду кризисов и заставляя рассказчика говорить с исступленной искренностью, которую люди — в менее крайних обстоятельствах — позволяют себе лишь в потайных мыслях. В «Записках» противостояние души и безумия доведено до предела, и читатель подслушивает истины, внушающие не меньший ужас, чем те, что Данте услышал в аду.
Окружающая обстановка — архи-«достоевская»: «дрянная, скверная» комната на окраине Петербурга, «самого отвлеченного и умышленного города на всем земном шаре». Погода описана в соответствующем ключе:
«Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега».
В следующих предложениях, которые открывают Вторую часть, мы читаем:
«В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая».
На ум приходит Вийон — первый великий голос из подполья европейского мегаполиса. У него тоже были и раздумья о «прошлогоднем снеге», и «рубеж тридцатилетия» (и разве не превосходно совпадение, что легенда о Марии Египетской, которая фигурирует у Вийона в нескольких стихах, упоминается и в «Подростке»?)
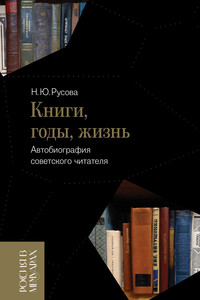
Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст.
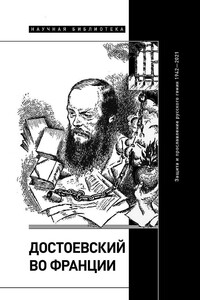
В монографии изложены материалы и исследования по истории восприятия жизни и творчества Ф. М. Достоевского (1821–1881) во французской интеллектуальной культуре, представленной здесь через литературоведение, психоанализ и философию. Хронологические рамки обусловлены конкретными литературными фактами: с одной стороны, именно в 1942 году в университете города Экс-ан-Прованс выпускник Первого кадетского корпуса в Петербурге Павел Николаевич Евдокимов защитил докторскую диссертацию «Достоевский и проблема зла», явившуюся одной из первых научных работ о Достоевском во Франции; с другой стороны, в юбилейном 2021 году почетный профессор Университета Кан — Нижняя Нормандия Мишель Никё выпустил в свет словарь-путеводитель «Достоевский», представляющий собой сумму французского достоеведения XX–XXI веков. В трехчастной композиции монографии выделены «Квазибиографические этюды», в которых рассмотрены труды и дни авторов наиболее значительных исследований о русском писателе, появившихся во Франции в 1942–2021 годах; «Компаративные эскизы», где фигура Достоевского рассматривается сквозь призму творческих и критических отражений, сохранившихся в сочинениях самых видных его французских читателей и актуализированных в трудах современных исследователей; «Тематические вариации», в которых ряд основных тем романов русского писателя разобран в свете новейших изысканий французских литературоведов, психоаналитиков и философов. Адресуется филологам и философам, специалистам по русской и зарубежным литературам, аспирантам, докторантам, студентам, словом, всем, кто неравнодушен к судьбам русского гения «во французской стороне».
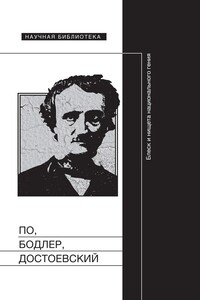
В коллективной монографии представлены труды участников I Международной конференции по компаративным исследованиям национальных культур «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и проблема национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей» (май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ). В работах литературоведов из Великобритании, России, США и Франции рассматриваются разнообразные темы и мотивы, объединяющие трех великих писателей разных народов: гений христианства и демоны национализма, огромный город и убогие углы, фланер-мечтатель и подпольный злопыхатель, вещие птицы и бедные люди, психопатии и социопатии и др.
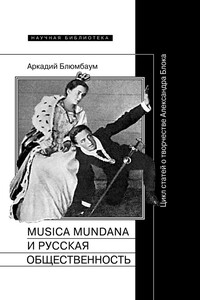
В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».
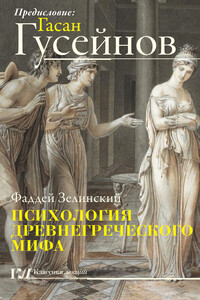
Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.
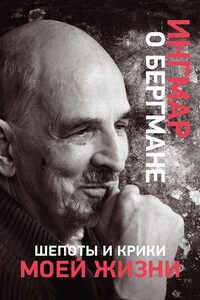
«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.