Толстой и Достоевский. Противостояние - [74]
В финальной версии «Бесов» Достоевский пожаловал Ставрогину княжеский титул лишь однажды, однако из черновиков ясно видно, что изначально Ставрогин задумывался именно как «князь». Обертона и подтексты чрезвычайно тонки: князем был двойной персонаж Мышкин-Рогожин, а Грушенька наделяет тем же титулом Алешу Карамазова. Для Достоевского это понятие несло в себе ритуальные и поэтические значения определенного — скорее всего личного — свойства. Во всех трех фигурах проглядывают скрытые аспекты Христа-мессии. Как я попытаюсь показать в следующей главе, Ставрогин несет в себе одновременно благодать и проклятие. Для Марии — в один из моментов повествования — он благородный избавитель, «ясный сокол и князь». Но рассматривая Ставрогина в этой смысловой плоскости — и в этом состоит моя мысль, — мы должны понимать, что в нем есть черты, заимствованные у Стирфорта из «Дэвида Копперфильда»[129], а титул может оказаться дальним отзвуком принца Родольфа[130] из «Парижских тайн». «Король Лир» существовал еще до Шекспира[131].
Достоевский — последний, кто стал бы отрицать многообразие своих заимствований. Упоминание в «Братьях Карамазовых» Анны Радклиф с ее «Таинствами Удольфскими» — это как приветствие, иронично отданное в знак признательности далекой во времени — но несомненной — предшественнице. Он не делал тайны из влияний, которые оказали на его искусство Бальзак, Диккенс и Жорж Санд в их самых сентиментальных и мелодраматических проявлениях. Из всех зрелых шедевров Шиллера он особенно выделял «Разбойников» за их безумие и ужас. Говорят, что в записных книжках Достоевского (не все из них пока опубликованы) полно чернильных рисунков готических окон и башен, а из воспоминаний его жены нам известно, что он был очарован и другой пра-темой мелодрамы — методами работы инквизиции. Это лишь одна из черт, роднящих готическое воображение Достоевского с Эдгаром По, писателем, к популяризации которого в России он приложил руку.
Всегда находились те, кто, распознав подобные особенности «достоевского» видения, не одобряли его. В письме Эдварду Гарнету Конрад ругал подобный образ опыта: «странные звери в зверинце или разбивающие себя вдребезги проклятые души». Генри Джеймс сообщил Стивенсону, что не смог осилить «Преступление и наказание». Автор «Доктора Джекила и мистера Хайда» возразил, что, мол, это его самого роман Достоевского чуть не «осилил». Нелюбовь Д. Г. Лоуренса к писательской манере Достоевского стала притчей во языцех; он сравнивал его прозу с крысой, верещащей в своем темном углу.
Находились и другие — те, кто стремился минимизировать степень реальной связи гения Достоевского с готической традицией. Можно вспомнить комментарий рассказчика в «Пленнице» Пруста:
«Эта новая, страшная красота домов, эта новая, сложная красота женских лиц, — вот то своеобразие, которое внес в мир Достоевский, и всякое сродство между ним и Гоголем или между ним и Полем де Коком, на которое указывают критики, не представляет никакого интереса, будучи чисто внешним по отношению к этой сокровенной красоте»[132].
Под «сродством» подразумеваются общепринятые традиции и отголоски готического и мелодраматического мировосприятия. А говоря о «сокровенной красоте», Пруст, вероятно, имел в виду преображение «достоевской» реальности через трагическое мироощущение. Признаю, первое невозможно было бы реализовать без второго.
Задача, которую решал Достоевский, состояла в следующем: постичь и воплотить реалии человеческой природы в череде предельных судьбоносных кризисов; перевести язык опыта на язык трагической драмы — единственный язык, который Достоевский считал правдивым — и при этом остаться в рамках натуралистических декораций современной городской жизни. Он не мог полагаться на то, что его читатели обладают навыками, необходимыми для того, чтобы разбираться в трагедии, — навыками, которые некогда были достаточно распространены и традиционны, чтобы на них могли опереться, скажем, елизаветинские драматурги, — и не мог выразить все необходимые смыслы в одном из тех исторических или мифологических контекстов, которые были под рукой у поэтов-трагиков, — поэтому ему пришлось приспособить под свои цели существующие традиции мелодрамы. Мелодрама отчетливо антитрагична; ее корневая формула — четыре акта явной трагедии, за которыми следует пятый, завершающийся спасением или искуплением. В силу условностей жанра, в двух шедеврах Достоевского — «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых» — действие завершается на взлете, что характерно для счастливых концовок мелодрамы. В «Идиоте» и «Бесах», напротив, занавес опускается в сумеречном лимбе безнадежности и открывшейся истины, это покой, наступивший после отчаяния, атмосфера, типичная для трагедии.
Вспомните некоторые сюжетные линии, эпизоды и острые диалоги, через которые Достоевский передает трагедийный взгляд: Рогожин преследует и едва не убивает князя, Ставрогин встречает Федьку у исхлестанного грозой моста, Иван Карамазов беседует с чертом. Эти сцены — каждая по-своему — выходят за пределы рационалистической или абсолютно светской традиции. Но любая из них все равно была понятна читателю благодаря рефлексам, внедренным в его чувственное восприятие авторами готических романов и мелодрам. Читая «Преступление и наказание», человек, уже знакомый с «Холодным домом» и «Грозовым перевалом», сразу испытывал ощущение встречи с чем-то знакомым, без чего нельзя установить необходимое взаимопонимание между автором и читателем.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
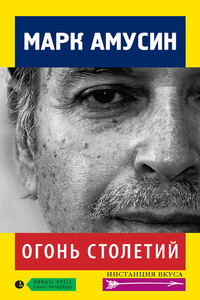
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.