Толстой и Достоевский. Противостояние - [4]
Но можно ли вообще сравнивать Толстого и Достоевского? Или воображаемый диалог этих умов и их взаимная осведомленность — лишь сказка для критиков? Подобного рода сравнениям порой могут мешать диспропорции в масштабах или отсутствие материалов. Например, до нас не дошли картоны к фреске да Винчи «Битва при Ангиари». Поэтому у нас нет возможности сопоставить две соперничавшие работы Микеланджело и Леонардо[7]. Но документов по Толстому и Достоевскому более чем достаточно. Мы знаем, как они относились друг к другу, и что значила «Анна Каренина» для автора «Идиота». Более того, я подозреваю, что в одном из романов Достоевского содержится пророческая аллегория его духовной дуэли с Толстым. Статусного несоответствия между ними нет — они оба титаны. Читатели конца XVII века были, видимо, последними в истории, кто мог искренне считать, что Шекспира можно ставить в один ряд с другими современными ему драматургами. Для нас же он — огромная, почитаемая нами фигура. Говоря о Марло, Джонсоне или Вебстере, мы вынуждены закрываться от лучей Шекспира закопченным стеклом. Толстой и Достоевский — не тот случай. Для тех, кто занимается историей идей или литературной критикой, они представляют собой уникальное сочетание, противостояние соседних планет, равных по величине и испытывающих возмущения от орбит друг друга. Они провоцируют на сравнение.
При этом между ними существовали точки соприкосновения. Да, их образы Бога, их представления об образе действий находились в непримиримом противоречии. Но они писали на одном языке и в один и тот же ключевой момент истории. Случались ситуации, когда они оказывались в шаге от знакомства, но всякий раз отступали из-за некоего навязчивого предчувствия. Мережковский — непоследовательный, ненадежный, но все же полезный свидетель — называет Толстого и Достоевского «наиболее противоположными» писателями:
«Я говорю — противоположного, но не далекого, не чуждого, ибо часто они соприкасаются… по закону сходящихся крайностей».
Немалая часть настоящей книги будет по духу разъясняющей, направленной на то, чтобы провести различие между поэтом и драматургом, рационалистом и визионером, христианином и язычником. Но у Толстого и Достоевского имелись и схожие черты, родственные моменты, которые делали антагонизм их натур еще более радикальным. С этого я и начну.
II
Прежде всего — «массивность», обширность пространства, в котором работали оба гения. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» — романы чрезвычайно объемные. «Смерть Ивана Ильича» Толстого и «Записки из подполья» Достоевского — это длинные рассказы, новеллы с тенденцией к главной форме. Многие склонны игнорировать это обстоятельство в силу его очевидности и наивности — мол, так сложилось. Однако с точки зрения целей Толстого и Достоевского, вопрос объема их прозы существенен. Он характеризует их видение.
Размеры литературного произведения — тема расплывчатая. Но разница в толщине между «Грозовым перевалом» и «Моби Диком» или между «Отцами и детьми» и «Улиссом» уже заставляет нас думать, что мы имеем дело не только с вопросами писательской техники, но и с разницей в эстетике и идеалах. Даже если мы ограничимся примерами крупной прозы, их все равно придется разделить. Толщина романов Томаса Вулфа — это неуемная энергия и сбои в контроле, растворение в неумеренных красотах языка. «Кларисса» Ричардсона длинна — даже чересчур, — поскольку автор переводит дискретную, свободную по строению структуру традиционного плутовского романа на новый язык психологии. В гигантских формах «Моби Дика» мы различаем не только совершенную гармонию между темой и методом, но и повествовательный механизм, отсылающий нас к Сервантесу — к искусству длинных отступлений. Многотомные хроники Бальзака, Золя, Пруста и Жюля Ромена иллюстрируют силу объема в двух аспектах: такой механизм создает атмосферу эпичности и передает ощущение хода истории. Но даже в рамках этого класса (отчетливо французского) мы должны видеть разницу: звенья, связывающие отдельные романы в циклах Бальзака и Пруста, отнюдь не одинаковы.
Размышляя о различиях между поэмой и стихотворением, По обнаружил, что поэма может включать в себя монотонные фрагменты и отступления, может использовать раздвоенность интонации, сохраняя при этом свои основные достоинства. Зато в ней нельзя достичь неослабевающей интенсивности и напряженности короткого стихотворения. Это правило неприменимо к прозе. Недостатки книг Дос Пассоса связаны именно с неоднородностью ткани. С другой стороны, петельчатая структура сплетена в великом цикле Пруста не менее тонко и плотно, чем в блестящей миниатюре мадам де Лафайет «Принцесса Клевская».
Массивность романов Толстого и Достоевского отмечалась с самого начала. Толстого сокращали — и порой продолжают сокращать — за философские интерполяции, морализаторские отступления, за его заметное нежелание завершить сюжет. Генри Джеймс называл толстые романы «рыхлыми мешковатыми монстрами». Русские критики говорят, что длина романа Достоевского зачастую объясняется его вымученным, кричащим стилем, постоянными колебаниями в отношении персонажей, да и попросту тем фактом, что платили ему постранично. Подобно викторианским аналогам, «Идиот» и «Бесы» отражают экономику сериализации. Среди западных читателей многоречивость Толстого и Достоевского нередко интерпретируется как чисто русская особенность, которая неким образом происходит из физической необъятности самой России. Такое представление абсурдно: Пушкин, Лермонтов и Тургенев — просто образцы краткости.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
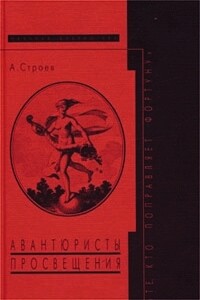
Книга, подготовленная в Отделе классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, посвящена знаменитым авантюристам и литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д’Эону, Бернардену де Сен-Пьеру, Чуди, Фужере де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи (роман, комедия, литературный миф, алхимия, игра)

Виталий Иванович Бугров, заведующий отделом фантастики журнала «Уральский следопыт» был не просто редактором, библиофилом и библиографом фантастики. Его перу принадлежит множество статей и очерков, посвящённых малоизвестным страницам отечественной и зарубежной фантастики. Лучшие очерки и статьи Виталия Бугрова собраны в этой книге.© Sawwin * * *В книгу уральского критика и литературоведа вошли очерки и этюды из истории фантастики, как новые, так и ранее публиковавшиеся.Книга адресована юношеству.* * *Переиздание сборника «В поисках завтрашнего дня» с добавлением нескольких новых статей и дополнениями в некоторых старых.

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.