Толстой и Достоевский. Противостояние - [3]
Таким образом, позвольте мне твердо заявить о своей непоколебимой убежденности в том, что Толстой и Достоевский — это выдающиеся фигуры среди романистов. В охвате видения и в мощи исполнения им нет равных. Лонгин[5] употребил бы здесь — и вполне уместно — слово «возвышенное». Они обладали силой с помощью языка конструировать «реальности» — ощутимые чувствами и материальные, но в то же время проникнутые таинством и жизнью духа. Именно эта сила отличает упомянутых Мэтью Арнольдом «величайших поэтов мира». Хотя Толстой и Достоевский своим масштабом охвата стоят особняком — посмотрите, какая сумма жизни собрана в «Войне и мире», «Анне Карениной», «Воскресении», «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах» и «Братьях Карамазовых», — они все же представляют собой неотъемлемую часть расцвета русского романа XIX столетия. Расцвет этот — в данной, вводной главе я рассмотрю его обстоятельнее — был одним из трех главнейших моментов триумфа, которые знала история западной литературы (остальные два — это эпоха древнегреческих драматургов и Платона и век Шекспира). В каждый из этих трех моментов западная мысль посредством поэтической интуиции совершила скачок в неизведанное, и сформировалась большая часть наших представлений о природе человека.
Было и еще будет написано немало книг о драматизме и показательности биографий Толстого и Достоевского, о месте этих писателей в истории романа, о роли их политических и теологических взглядов в истории идей. Когда Россия с идеями марксизма подошла к порогу имперского статуса, нас настигла пророческая мысль Толстого и Достоевского, ее применимость к нашим собственным судьбам. Но здесь требуется более узкий и в то же время более обобщенный подход. Прошло уже достаточно времени, чтобы мы смогли осознать величие Толстого и Достоевского в перспективе основных традиций. Толстой предлагал сравнивать его произведения с Гомером. «Война и мир» и «Анна Каренина» в куда большей степени, чем «Улисс» Джойса, воплощают возрождение эпоса, возвращение в литературу тональностей, нарративных практик и форм артикуляции, которые ослабли в западной поэтике после эпохи Мильтона. Но чтобы понять, почему это так, и адаптировать к мысли критика непосредственное и безошибочное узнавание Гомеровых элементов, требуется чтение чуткое и внимательное. В случае с Достоевским более скрупулезный взгляд также необходим. Общепризнанным является то, что его гений лежит в плоскости драмы, что он во многих существенных отношениях обладал неведомым со времен Шекспира (на подобное сравнение он и сам намекал) всеобъемлющим и естественным драматическим складом. Но лишь публикация и перевод достаточного количества черновиков и записных книжек Достоевского (к этим материалам я собираюсь широко обращаться) — сделали возможным проследить многообразные взаимосвязи между его концепцией романа и техникой драмы. После «Фауста» Гете идея театра — говоря словами Фрэнсиса Фергюссона[6] — в части трагедии пережила резкий упадок. Цепочка бытия, которую выраженное родственное сходство позволяло протянуть назад до Эсхила, Софокла и Еврипида, казалась оборванной. Но роман «Братья Карамазовы» твердо укоренен в мире «Короля Лира»; в прозе Достоевского целиком восстановилось трагическое ощущение жизни в старом понимании. Достоевский — один из великих поэтов-трагиков.
Экскурсы Толстого и Достоевского в политическую теорию, теологию, историческую науку чаще всего игнорируют, считают эксцентричностью гениев или примерами курьезной слепоты, которую наследуют великие умы. В сфере же, где им уделяют серьезное внимание, проводится строгая граница между литературой и философией. Но у зрелой писательской техники и метафизики есть объединяющие аспекты. И у Толстого, и у Достоевского — как, думается, и у Данте — поэзия и метафизика, импульс к творчеству и импульс к систематическому осмысливанию являлись хоть и сменяющими друг друга, но все же неразделимыми реакциями на груз опыта. То есть, толстовская теология и присутствующее в его романах и рассказах мировоззрение прошли через один и тот же плавильный котел убеждений. «Война и мир» — это поэма об истории, но истории, рассматриваемой в особом свете — или, если угодно, в особой тьме — толстовского детерминизма. Поэтика этого писателя и выдвигаемый им миф о человеческих отношениях одинаково актуальны для нашего осмысления. Метафизике Достоевского в последнее время уделяется особое внимание, она составляет одну из определяющих основ современного экзистенциализма. Но почти ничего не говорится о взаимосвязи между мессиански-апокалиптическим взглядом автора и реальными формами его искусства. Как метафизика попадает в литературу и что с ней происходит, когда она там оказывается? В последней главе мы рассмотрим эту тему на примере «Анны Карениной», «Воскресения», «Бесов» и «Братьев Карамазовых».
Почему книга называется «Толстой или Достоевский?» Потому что я предлагаю рассмотреть созданное ими и определить природу их гения, противопоставив их друг другу. Русский философ Бердяев писал: «Можно установить два строя души, два типа души — один благоприятный для восприятия толстовского духа, другой — для восприятия духа Достоевского». Его слова подкреплены опытом. Читатель может считать их обоих великими мастерами литературы — то есть, он может найти в их романах самое всеохватывающее и доскональное изображение жизни. Но спроси его строже, и он выберет лишь одного из них. А если он еще и пояснит свой выбор, это, полагаю, будет значить, что вы постигли его собственную натуру. Выбор между Толстым и Достоевским предопределяет то, что у экзистенциалистов называется «вовлеченностью», он заставляет воображение остановиться на одной из двух радикально противоположных интерпретаций человеческой судьбы, исторического будущего, таинства Бога. Вновь обращаясь к Бердяеву: Толстой и Достоевский служат примером неразрешимого противоречия, где «сталкиваются две избирающие воли, два первоощущения бытия». Эта конфронтация затрагивает преобладающий дуализм западной мысли, уходящий корнями в диалоги Платона. Но также она самым трагическим образом имеет отношение к идеологической войне нашего времени. Советские печатные станки выдают буквально миллионы экземпляров толстовских романов; «Бесы» же были изданы в СССР лишь недавно и весьма неохотно.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.

В рубрике «Трибуна переводчика» — «Хроники: из дневника переводчика» Андре Марковича (1961), ученика Ефима Эткинда, переводчика с русского на французский, в чьем послужном списке — «Евгений Онегин», «Маскарад» Лермонтова, Фет, Достоевский, Чехов и др. В этих признаниях немало горечи: «Итак, чем я занимаюсь? Я перевожу иностранных авторов на язык, в котором нет ни малейшего интереса к иностранному стихосложению, в такой момент развития культуры, когда никто или почти никто ничего в стихосложении не понимает…».
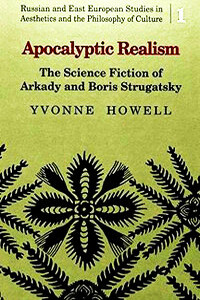
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.