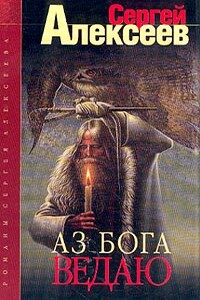Я свой выбор сделал неожиданно. В краеведческом музее увидел макеты жилищ первобытных людей: каменные зевы пещер у подножия скалы. За ней во всю ширь лежала нарисованная первобытная земля. Дыбились лохматые мамонты, разгуливали саблезубые тигры, в сером небе носились огромные птицы, и только сами люди, с низкими нахмуренными лбами, в жалких клочьях шкур, с суковатым дубьем в руках, были маленькими и немощными. И меня потянуло к ним, хотелось заглянуть в пещеру, потрогать руками скребок, копье с обсидиановым наконечником, послушать, как они разговаривают и разговаривают ли вообще…
Склонившись к плитам, Кареев продолжал мести песок. Над нашими головами по-прежнему шумели кроны бора, но теперь уже не монотонно, а всплесками, то угасая до шепота, то с нарастающей гулкой силой. Ветер изменил направление и дул со стороны Еранского. Там же, на дальнем горизонте, теснились и уходили вертикально в небо белые кучевые облака. Я спустил ноги с бровки и тут услышал пение. Пели в Еранском, как в прошлый раз, мощно и протяжно – лишь не было эха…
– Ишь ты, поют! – удивленно прокомментировал Иван и замер с полуснятым сапогом в руке.
Я знал, что сегодня, а не на третий день, будут хоронить Дарью Лычеву: сенокос, надо выхватывать каждый погожий день, да и жара… Так мне вначале объяснила Анастасия Прокопьевна, а затем добавила, что в страду на Руси хоронят быстро. Живым есть хочется…
– Отпевают, – прислушавшись, определил Стас. – Заупокойная.
– Да ну… – не поверил Иван. – Ты послушай, послушай!..
Я не мог разобрать слов. Мешал гул сосен над головой, но это была не молитва… «Потом из лесу домой идем, бабы песню заладят, и Дарья тоже с ними, да еще громче всех, – вспомнил я рассказ Анастасии Прокопьевны. – И все мне совет дает: ты пой, Тася, пой, легше будет…»
Мы спустились в раскоп, когда песня совсем пропала и остался лишь колеблющийся шум бора.
Мягкий песчаный грунт снимался легко. Часа через три мы почти целиком обнажили захоронение. Скелет человека, за исключением конечностей, оказался неразрушенным. С правой стороны его проступил пока еще непонятный каменный предмет. Бычихнн по-прежнему спокойно сидел на отвале, изредка прохаживаясь вдоль раскопа, и казался равнодушным.
– Стойте, – вдруг сказал он и выпрямился.
Я выглянул наружу…
От тропы к кургану шла Фрося. Мешковатое платье путалось в ее ногах, а из-под натянутой до глаз шапки торчали сосульки волос.
– Ай, раскопали! – всплеснула руками Фрося. – Эко чудо – поглядеть!
Она ступила на край раскопа и заглянула. Я стоял внизу, напротив нее, но не мог поймать ее взгляда.
– Мелконько хоронили, – удивилась Фрося. – Мы-то бабку Лычиху глыбко закопали…
Фрося опасливо отступила от края и, приложив козырьком ладонь ко лбу, посмотрела в небо.
– Ну, оставайтесь тута, – сказала она. – Я приду еще. Сбегаю в военкомат, поспрошаю про Гришу и приду…
Шкуматов повернулся спиной и присел на край могильного ящика. Покраснели тугие мышцы на его короткой шее, лежащие на земле руки сжимались и разжимались, загребая песок… Стас задумчиво играл кистью, Бычихин стоял прямо, скрестив на груди руки…
Фрося огладила платье на животе, обвела всех счастливым взглядом и, сгорбившись, устремилась к тропе. Я выбрался из раскопа и встал рядом с Бычихиным.
– Девка-то ваша тама, у нас! – крикнула Фрося, оборачиваясь на бегу. – Чудная девка, пое-е-ет…
Несколько минут было тихо, беззвучно шатались под ветром сосны, немо клубились безгрешно белые тучи на горизонте. Бычихин молча спрыгнул в раскоп и выдернул из песка непонятный каменный предмет…
Это была фигурка лошади. Больше всего она напоминала детскую игрушку. Сергей повертел ее в руках и, засунув в карман, ушел в лагерь.
Спустя неделю мы закончили раскопки центрального кургана. Под холмом оказалось девять могил железного века, из них четыре было ограблено еще в древности. Сергей Бычихин уехал в город. Отпуск его подходил к концу. Еранский могильник относился к окуневской культуре, все сомнения отпали.
Никакой другой неизвестной культуры здесь не было.
Томск – Алейка. 1980-1982 гг.