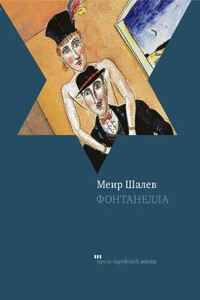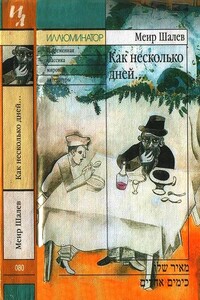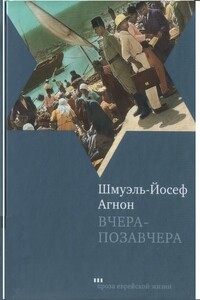1
— И тут вдруг, — перебил пожилой американец в белой рубашке, — надо всем этим адом появился голубь…
Воцарилось молчание. Его неожиданный иврит и этот голубь, внезапно вылетевший у него изо рта, озадачили всех. Даже тех, кто не понял, о чем он.
— Голубь? Какой голубь?!
Американец — рослый и загорелый, какими ухитряются вырасти и загореть только пожилые американцы, с львиной гривой волос на голове, в мокасинах на ногах — ткнул пальцем в сторону монастырской башни. Много воды с тех пор утекло, но кое-какие детали той жуткой ночи памятны ему еще и сегодня, «и забыть это, — провозгласил он, — я уже никогда не смогу». Не только отчаяние и страх и не только победу («одинаково неожиданную, что для нас, что для них», — заметил он), — но и всякие мелочи, из тех, смысл которых проясняется лишь много позднее: например, что время от времени в монастырский колокол — «вон там, в тот самый» — ударяла шальная, а может, и прицельно посланная пуля, и на каждый такой удар металл откликался резким, странным звоном, который долго еще слышался в темноте, так до конца и не замолкая.
— Да, но голубь?..
— Странный такой звук, необычный — вначале резкий и сильный, будто он и сам изумлен, что в него попали, а потом всё тише и тише, словно уже и ранен насмерть, а никак не кончается, не может. И так до следующей пули. Один из наших раненых сказал даже: «Бедняга, привык, что его лупят изнутри, а тут вдруг снаружи».
И улыбнулся про себя, словно только сейчас понял. Обнажились зубы, тоже чересчур белые, какими они бывают только у пожилых американцев.
— Но этот голубь? Откуда вдруг там голубь?
— Homing pigeon. На девяносто девять процентов. Почтовый голубь Пальмаха.[1] Всю ночь они нас обстреливали, а под утро, часа через два или три после восхода солнца, вдруг смотрим — почтарь! Взлетел над нами и ушел в небо.
Его неожиданный иврит выглядел вполне прилично, несмотря на акцент, но английское «homing pigeon» почему-то прозвучало более выразительно и точно, чем «почтовый голубь», пусть даже Пальмаха.
— Почем вы знаете, что это был почтарь?
— С нами был голубятник. Так его называли. Специалист по голубям с небольшой такой голубятней на спине. Наверно, когда он погиб и эта его голубятня разбилась, тот голубь и вырвался на волю.
— Погиб? Каким образом?
— Мало там было возможностей погибнуть? Только выбирай. Хочешь — от пули, хочешь — от осколка, в голову, в живот, в бедренную артерию. Иногда сразу уложит, а иногда и поживешь еще часика два-три после того, как зацепило. — Он глянул на меня желтыми львиными глазами и усмехнулся: — Подумать только — пошли на войну и почтовых голубей с собой прихватили. Совсем как те древние греки…
2
И вдруг, поверх всего этого кровавого ада, сражавшиеся увидели голубя. Вот он — пробивается сквозь погребальную пелену пыли, поднимается ввысь и уходит в небо. Поверх воплей и хрипа, поверх осколков, шипящих в прохладном воздухе, поверх невидимых пулевых трасс, поверх пулеметного лая, оглушительных взрывов гранат и грохота орудийного выстрела.
Самый обыкновенный на вид. Темно-серый с голубоватым отливом, ножки карминные, а поперек крыльев — как украшение — две темные полоски, словно на талите.[2] Голубь как голубь, похожий на тысячи других. Только сведущее ухо смогло бы уловить силу, с которой ударяли его крылья, вдвое большую, чем у обычных голубей. Только глаза знатока смогли бы различить широкую, выпуклую грудь, и клюв, что по прямой продолжает наклонную линию лба, и характерную светлую припухлость в том месте, где этот клюв переходит в голову. Только любящее сердце смогло бы распознать и вместить всю тоску, что скопилась в тельце маленькой птицы, указала ей путь и влила в нее силы. Но эти глаза уже погасли, эти уши уже не слышат, и даже сердце опустело и умолкло. Только его последнее желание осталось да эта птица с ее жадным стремлением — домой.
Вверх. Над кровью, над гарью, над пальмами. Над ранеными, чьи тела уже разъяты, разверсты, сожжены, недвижны. Над теми, чья плоть еще превозможет, но душа погаснет, и над теми, кто не выживет, а по прошествии лет, со смертью всех помнивших, умрет вторично.
Вверх. Как можно выше. Как можно дальше. Пока грохот стрельбы не превратится в слабое постукивание, пока крики не стихнут вдали, и запах рассеется, и дым растает, и мертвые станут неотличимы друг от друга и сольются в единую бездыханную массу, а живые отделятся от них и пойдут каждый к своей судьбе, недоумевая: чем заслужили? А эти, что полегли, — чем провинились? И, бросив напоследок беглый взгляд по сторонам, — домой! По прямой, как всегда возвращаются почтовые голуби. Домой. Сердце трепещет, но стучит упрямо. В золотистых глазах страх, но зрачки расширены, не упустят вокруг ни одной знакомой приметы. Прозрачная пленка натянулась под веками, защищая от слепящего солнца и пыли. Хвост, закругленный и короткий, украшен еще одной узкой полоской — наследным знаком птичьей знати древнего Дамаска. В маленькой круглой головке — жадная тоска воспоминаний: голубятня, клетка, родное воркование, теплый запах гнезда и насиженных яиц. Рука молодой женщины проходит над кормушкой, знакомое постукивание зерен в ее корзинке, взгляд шарит по небу, ищет и ждет, голос — «гули-гули-гули!» — зовет спуститься.