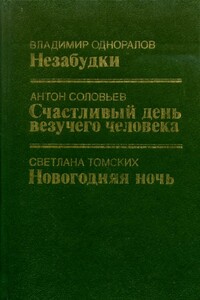Свет мой - [11]
Утро. Восходит солнце, и кусты, травы — весь луг до окоема оживает трепетным мельканием огоньков. Горит роса.
Я ложусь в траву и смотрю на росинку, что искрится у меня перед глазами. Из ее голубой таинственной глуби выплывают облака, кони, деревья… До чего ж искусны ночные мастера! В хрустальной чистоте отковать, отшлифовать капельку солнца. Да так, чтоб весь мир уместился в малой малости…
Утро чудное. Воздух густ и прян запахами воды, трав, цветов. На деревне поют петухи, мычат коровы, скрипит колодезный ворот…
Тетя Катя выходит из покосного шалаша, смотрит на небо, щурится от солнца, улыбается. Потом садится на корточки, проводит рукой по траве и — умывается… росой.
Она небольшого роста, худенькая, словно девчонка, ровесница мне. Лицо у нее чистое, молодое, глаза луговые тихие, на разговор же быстрая.
Я — гость, приехал к сестре отца, тете Кате, из города и вчера вечером напросился на покос.
— Однако, паря, пора начинать, — говорит тетя Катя, и мы выходим на прокос. «Вжик-вжик…» — пошли наши косы по лугу. «Коси, коса, пока роса, роса долой — коса домой», — в такт взмаху косы и шагу повторяю я себе. Ничего, вроде получается, не забыл… Хорошо-то как! Дышится полной грудью, чувствуешь себя крепким и сильным. Ни комарья, ни мошкары. Коси, коса!..
Но скоро устает рука, плечи, спина. Коса все чаще буравит землю.
— Да ты отдохни малость! Пупок сразу-то сорвешь! — кричит тетя Катя. — Отдохни…
Отдыхаю, прохлаждаюсь… А тетя Катя косит по-мужски широко, спокойно. Да разве за ней угонишься?! Я иду к озерку пошукать кислицы.
Возвращаюсь с полной литровой банкой красной смородины и вижу: тетя Катя тоже отдыхает на охапке свежекошеной травы.
— Ну, с почином тебя! — легонько бьет меня по плечу тетя Катя. — Смотрю, хорошо косишь. Чисто. Отца наука-то?
— Его.
Стрекочут кузнечики, летают стрекозки, бабочки, много капустниц белых, красивых крапивниц… На голубоватый бархатистый лист мать-мачехи опускается медленно шмель, чем-то он недоволен: сердито жужжит, а разодет… словно в золото и парчу барон какой. Перед ним росинка — крупная, полная нетерпеливого утреннего света. Коротким хоботком трогает росинку. Она не оплывает, не растекается по листу, а уменьшается на глазах, не теряя своей формы. Вот это да! Пьет росинку… Вкусно, наверное…
Тетя Катя тоже следит за шмелем и словно продолжает давнишний свой рассказ:
— Роса целебную силу таит. В старые времена девки поутру в луга бегали — купаться. Разденутся и — по косячной траве. Бежишь наперегонки, во всю моченьку… Смеху, веселья — воз цветов! Ублазнишься так с полверсты, упадешь… тело все иголочками покалывает, каждая клеточка в тебе звенит… Ни хвори, ни тоски не знали. Росли здоровыми, красивыми, работящими… рожали по семь-восемь детей и ничего…
Она задумалась вдруг, замолчала, глядя далеко-далеко.
— Помню, — очнулась так же неожиданно, — жил у нас в деревне дед Пахом. Старый был дедушка. До того древний, что и борода его зеленью занялась. Зиму сердешный на печи спасался, а наступит голуба весна, глядишь, сидит уже на завалинке, солнышку улыбается.
А летом, бывало, созовет нас, ребятишек, к себе: «Робятки, — скажет, — уважьте Георгиевского кавалера, а я вам сказку расскажу». Ясно дело, мы рады стараться.
Утром, как петухи зачнут куролесить, бежим на луг. Солнышко выглянет — тут не мешкай, знай дело, как дед Пахом учил: капельку за капелькой, ягодку за ягодкой, солнышко за солнышком — собирай в склянку росинки. Где прямо с цветочка стряхнешь, где с травинки. Луг весь алмазно горит, искрится, переливается разным цветом, будто большая рыбина из реки вышла погулять по лугу-то. Красота!
Принесем дедушке водицы-слезицы луговой — он и рад, спасибо скажет, пряником угостит, конфеткой. Но главное, конечно, сказки… Правда, однажды созорничали мы: Санька Пискулев надоумил…
Принесли мы как-то деду Пахому обыкновенной воды, из ручья — ничем не хуже росной. Чистая… слеза ангельская… Думаем, дед и не поймет, что к чему: не разберет, где супонь, где подпруга…
Да-а. Как всегда дедушка спасибо сказал… «Ужо, — говорит, — приходите вечером, сказку новую скажу про богатыря Полкана»…
— Прибежали, — вздохнула и сгрустнула лицом тетя Катя, — дед Пахом на бревнышке сидит, чёй-то совсем квелый, больной лицом.
Тетя Катя замолчала, видимо, не очень-то охотно вспоминая тот день в далеких заревых далях детства.
— А что дальше? — нетерпеливо попросил я.
— Дальше? А вот послушай дедову сказку…
— В некотором царстве-государстве, где реки молочные текли, где бережочки сливочные, горы сахарные, озерца медовые, где хлеб на деревьях булками и сайками рос, жила-была девочка. Звали ее Настеной, Настенькой. Мала она была росточком, а уж на радость и удивление родителям — ума необыкновенного. Пойдет в лес — белки на руки просятся. Настена с ними балуется, разговоры разговаривает… Белки ей орешков несут, грибков сушеных. Медведь встретится — дорогу уступит, поклонится…
Жили люди в этом царстве-государстве дружно, друг дружке обид не чинили, без забот и зла жили — все у них под боком.
Однако однажды случись беда: потемнело небушко, молнии поналетели — Змей-Василиск явился! Принялся он деревья хлебные вырывать, молоком из речек запивать, в озерцах медовых купаться. Три дня, три ночи безобразничал, фулиганствовал. Народ напугал, святую землю опоганил и — улетел. С тех пор оскудела наша земля: ни молочных дождей, ни манки с неба…

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
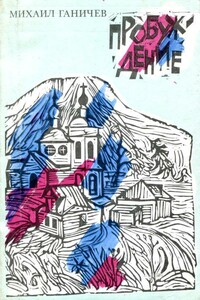
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Оренбуржец Владимир Шабанов и Сергей Поляков из Верхнего Уфалея — молодые южноуральские прозаики — рассказывают о жизни, труде и духовных поисках нашего современника.

Повести и рассказы молодых писателей Южного Урала, объединенные темой преемственности поколений и исторической ответственности за судьбу Родины.