Стихи - [31]
Все знают боль, которая дружит со смертью,
но боль настоящая не обитает в душах,
и в воздухе нет ее, и нет ее в нашей жизни,
и в этих задымленных кубах.
Настоящая боль,
та, что все заставляет проснуться, -
это крохотный, вечно горящий ожог
в безвинных глазах неизвестных миров.
Забытые платья так давят на плечи,
что небо порой их сгоняет в шершавое стадо.
А умершие от родов узнают перед смертью,
что каждый шум - это камень, и каждый след -
это сердце.
Мы забываем, что есть у мысли задворки,
где заживо съеден философ червями и сбродом.
Но слабоумные дети отыскивают по кухням
маленьких ласточек на костылях,
знающих слово "любовь".
Нет, это не птицы.
Птицы не воплощают мутный озноб болота.
И это не жажда зверства, гнетущая ежечасно,
не лязг самоубийства, бодрящий нас на рассвете.
Это воздушный взрыватель - и весь мир
в нас становится болью,
это атом живого пространства, созвучного
скорости света,
это смутная лесенка, где облака отдыхают
от вечного гвалта, бурлящего в бухтах крови.
Сколько искал я
этот ожог, никому не дающий заснуть,
а находил лишь матросов, распятых на парапете,
и хрупких детенышей неба, засыпанных снегом.
А настоящая боль оставалась где-то,
где каменели рыбы, внутри бревна задыхаясь,
на пустошах неба, чуждого древности статуй
и пламенной дружбе вулканов.
Нет и в голосе боли. Одни только зубы,
но зубы замолкнут, разъединенные крепом.
Нет в голосе боли. И только земля остается.
Земля, где всегда есть двери,
открытые в рай плодов.
РОЖДЕСТВО
Ищет вымя пастух, и к ослепшей коптилке
льнут седые овчарки кудлатой метели.
Восковое дитя с камышовой подстилки
протянуло ладонь стебельком иммортели.
Чу... Шажки обмороженных ног муравьиных.
Рассекли небеса две кровавых полоски.
Чрево беса разверзлось - и в зимних долинах
студенистой медузой дрожат отголоски.
Запевает по-волчьи зеленое пламя,
у костров муравьиное утро теснится.
Сновиденья луны шелестят веерами,
и живому быку изрешеченный снится.
Три слезы на лице у младенца застыли.
В сене видит Иосиф три терния медных.
И плывет над пеленками эхо пустыни,
гул оборванных арф и молений предсмертных.
А рождественский снег по Манхэттену веет
над готической скорбью, подделанной грубо.
И насупленный Лютер ведет по Бродвею
слабоумных святош и хохлатых керубов.
ЗАРЯ
У зари над Нью-Йорком
четыре ослизлых опоры
и вороньи ветра,
береляшие затхлую воду.
У зари над Нью-Йорком
ступени безвыходных лестниц,
где в пыли она ищет
печальный рисунок фиалки.
Восходит заря, но ничьих она губ не затеплит -
немыслимо завтра и некуда деться надежде.
Голодные деньги порой прошумят
над бульваром,
спеша расклевать позабытого в парке ребенка,
И кто пробудился, тот чувствует
каждым суставом,
что рая не будет и крохи любви не насытят,
что снова смыкается тина законов и чисел,
трясина бесцветной игры и бесплодного пота.
Рассвет умирает, глухой от кандального лязга,
в содоме заносчивых знаний, отринувших землю.
И снова, кренясь от бессонницы, тянутся люди,
как будто прибитые к суше кровавым потопом.
СТИХИ ОЗЕРА ЭДЕМ-МИЛС
ДВОЙНАЯ ПОЭМА ОЗЕРА ЭДЕМ
Наше стадо пасется, и ветер веет.
Гарсиласо
Древний, мой прежний, голос
не глотал загустевшие, горькие соки.
Вижу - он лижет и лижет мне ноги
в зарослях влажной, хрупчайшей осоки.
Ай, прежний голос любви моей,
ай, голос правды моей,
ай, голос моей распахнутой раны, -
в те дни с языка моего струились розы вселенной -
все до единой,
и даже не снилось травинке невинной
хладнокровное хрупанье
челюсти длинной, лошадиной!
Ныне кровью моей допьяна напиваются,
напиваются кровью угрюмого детства,
а глаза мои разбиваются на свирепом ветру сиротства,
в сатурналиях алюминия,
пьяных воплей и святотатства.
Отпустите меня, отпустите
в мир, где Ева ест муравейник
и Адам оплодотворяет перламутровых рыб туманных.
Пропусти, человечек с рожками, добрый гений
вьюнковых звений,
дай дорогу в долину божественных пеней,
райских сальто и райских летаний.
Мне ведомы самая тайная сущность,
и цель сокровенная ржавой иголки,
и магический ужас в глазах, что, проснувшись,
видят сами себя на глазурной тарелке.
Не надо ни сна, ни блаженства, - всего лишь,
о голос божественный,
всего лишь нужна свобода, моя любовь человечья,
которая терпит увечья
в беспросветных воронках ветра.
Моя любовь человечья!
Все акулы охотятся друг за другом,
ветер вцепится скоро в сонных листьев изнанку.
О древний голос! Языком своим выжги
мой теперешний голос - порошок и жестянку.
Буду плакать, ведь хочется, хочется плакать,
так заплакать, как мальчику с парты последней,
потому что я не травинка, не поэт, не скелет,
закутанный в мякоть,
а лишь сердце, смертельно раненное,
стон - на стоны иного мира,
боль - на боль вселенной соседней.
Повторять свое имя и плакать, -
роза, детство, над озером сизым зелень елки
и жилки простора, -
говорить свою правду и плакать, правду сердца,
способного плакать,
ради правды - убить иронию
и подсказки литературы.
Нет, не требую, нет, - я ведь только хотел бы,
чтобы вольный мой голос лизал мои руки.
В лабиринте бессовестных ширм затерялось бумажкой
мое сиротливое тело,
и его добивают луна и часы, на которых от пепла
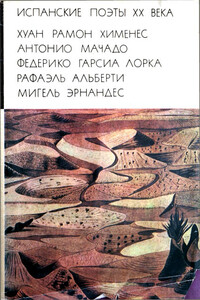
Испанские поэты XX века:• Хуан Рамон Хименес,• Антонио Мачадо,• Федерико Гарсиа Лорка,• Рафаэль Альберти,• Мигель Эрнандес.Перевод с испанского.Составление, вступительная статья и примечания И. Тертерян и Л. Осповата.Примечания к иллюстрациям К. Панас.* * *Настоящий том вместе с томами «Западноевропейская поэзия XХ века»; «Поэзия социалистических стран Европы»; «И. Бехер»; «Б. Брехт»; «Э. Верхарн. М. Метерлинк» образует в «Библиотеке всемирной литературы» единую антологию зарубежной европейской поэзии XX века.

Как рассказывают родственники поэта, сюжет этой пьесы навеян воспоминаниями детства: дом женщины, послужившей прототипом Бернарды Альбы, стоял по соседству с домом родителей Гарсиа Лорки в селении Аскероса, и события, происходящие в пьесе, имели место в действительности. Драма о судьбе женщин в испанских селеньях была закончена в июне 1936 г.

Поэзия Федерико Гарсиа Лорки – «порыв, страсть, смятение и счастье, чистейший памятник любви, изваянный из стихий: души, тела и растерзанного сердца поэта», неповторимые образы, сотканные из ассоциаций, фольклорных и авангардных элементов, всепокоряющая магия. И жизнь, и творчество Лорки были оборваны на полуслове – он прожил всего 38 лет.В книгу, составленную известным литературоведом Н. Р. Малиновской, включены стихотворения, проза и драмы испанского поэта, каждый раздел начинается с иллюстрации Федерико Лорки.

Народный фарс для кукольного театра. Впервые был представлен во время пребывания Гарсиа Лорки в Аргентине, причем автор участвовал в спектакле.

«Я написал „Чудесную башмачницу“ в 1926 г… – рассказывал Федерико Гарсиа Лорка в одно из интервью. – …Тревожные письма, которые я получал из Парижа от моих друзей, ведущих прекрасную и горькую борьбу с абстрактным искусством, побудили меня в качестве реакции сочинить эту почти вульгарную в своей непосредственной реальности сказку, которую должна пронизывать невидимая струйка поэзии». В том же интервью он охарактеризовал свою пьесу как «простой фарс в строго традиционном стиле, рисующий женский нрав, нрав всех женщин, и в то же время это написанная в мягких тонах притча о человеческой душе».

Летом 1934 г., сообщая о том, что заканчивает работу над пьесой «Йерма» («yerma» по-испански – «бесплодная»), Гарсиа Лорка сказал: «Йерма» будет трагедией о бесплодной женщине. Тема, как вам известно, классическая. Но я хочу развить ее по-новому, с новой целью. Это трагедия с четырьмя главными героями и хорами, какими и должны быть трагедии. Нужно вернуться к трагедии. Нас обязывает к этому традиция нашего драматического театра. Еще будет время сочинять комедии, фарсы. Сегодня же я хочу дать театру трагедию. «Йерма», которую я завершаю, будет моим вторым произведением в этом жанре».