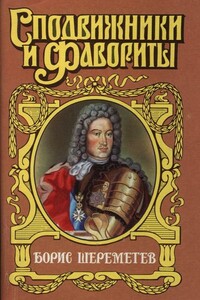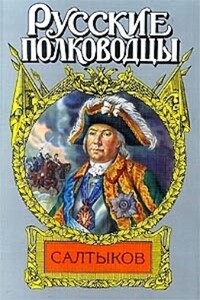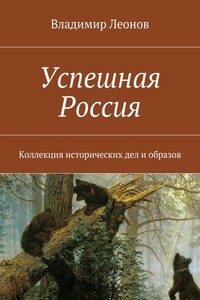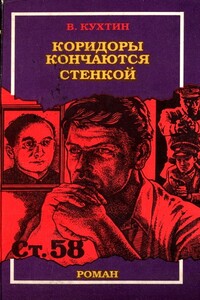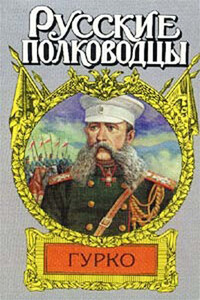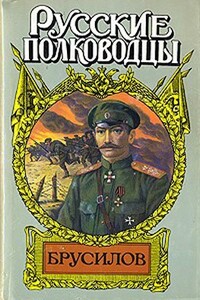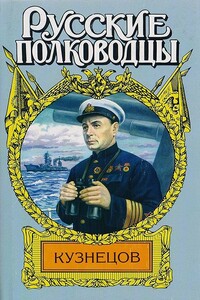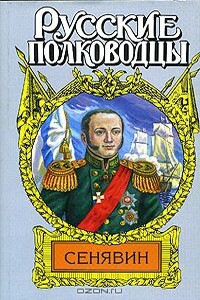— Что с ним?
— Занедужил.
— Оботрите кровь.
— Надо дать воды.
— Лучше молока.
— Его надо на ложе положить.
— Да, да, на ложе.
— Давайте возьмемся. Князь, берите его за плечи. Григорий, поддержи ноги.
Поднятый на руки Скопин неожиданно внятно проговорил:
— Пожалуйста, домой.
— Да, да, да, — подхватил взволнованный Воротынский и закричал: — Нестерка, вели запрягать каптану. Да быстрей ты, телепень!
Ехать с Скопиным вызвались Валуев и Федор Чулков. Гости, пораженные случившимся, не захотели уже возвращаться к столу. Праздник был испорчен. И вскоре все начали разъезжаться.
Валуев, вернувшись, застал только князя Воротынского. Он поднял встревоженный взгляд:
— Ну как?
— Плохо, князь. Очень плохо. Его еще в каптане начало рвать.
— Отчего бы это, Гриша?
— Как отчего? — возмутился Валуев. — Его отравили.
— Кто? Что ты мелешь?
— Кума твоя, курва, вот кто! Она — змеюка малютовская.
— Тише, Гриша, тише. Могут холопы услышать. И это в моем доме, Боже мой!
— Шила в мешке не утаишь, Иван Михайлович, завтра вся Москва будет знать: у Воротынского убили князя Скопина.
— Бог с тобой, Григорий Леонтьевич, что ты говоришь? При чем тут я? Да и потом, может, еще обойдется, выздоровеет князь.
— Хотелось бы верить, но от укуса такой змеи… Эх, Иван Михайлович, кто тебя надоумил ее в крестные звать?
— Она сама напросилась.
— Как, то есть, сама? — насторожился Валуев.
— Ну как? Я сказал ей, что восприемником зван Михаил Васильевич, она и говорит: меня тоже возьми, хочу с племяшом покумиться.
— Покумилась, сучка, покумилась.
— Но ведь, Григорий Леонтьевич, это же твои предположения только. Может, к Скопину какая-то болезнь прицепилась.
— Эх ты, Иван Михайлович, — сказал с упреком Валуев. — Я думал, ты умный человек, а ты… Да чего там говорить. — Валуев махнул рукой и вышел, даже не попрощавшись.
Скопин умирал тяжело. Страшные боли терзали внутренности. Делагарди прислал своего лекаря, тот велел давать больному парного молока. И казалось, от него наступало какое-то облегчение, но оно было недолгим. Начиналась рвота, и все молоко свернувшейся массой вылетало обратно. Любая пища только усиливала боль, и уже через неделю князь Скопин исхудал до восковой желтизны.
— Скорее бы… Скорее, — шептал он побелевшими губами.
— Что, Мишенька, что, родненький? — спрашивала жена Анастасия Васильевна, заливаясь слезами.
Но у него уже не хватало сил даже на жалость:
— Смерти прошу, смерти… Где она?
Пороховой дорожкой, вспыхнувшей от искры, бежала по Москве новость, «Скопина-князя отравили».
— Кто?
— Шуйского Дмитрия жена.
— Ах, стерва. А? Да за это убить мало.
— Это он… Это по приказу Васьки.
— Не может быть?
— Что не может быть. Народ Скопина в цари прочил. А Ваське не в дугу.
— Ах ты ж, батюшки, горе-то како!
И едва разнеслась весть: «Михаил Васильевич преставился», как на Торге настойчиво зазвучали голоса: «Убить Шуйчиху! Убить змею подколодную!»
Толпа, вооружась дрекольем, кинулась к подворью князя Дмитрия Шуйского. В дубовые ворота застучали палками, закричали требовательно:
— Отчиняй! Давай малютино отродье на суд мирской!
Дмитрий Иванович послал к царю конюха за помощью:
«Скажи, чернь взбулгачилась, как бы не побила нас». Тот крышами амбара и сарая перебежал на другую улицу, помчался к Кремль.
Екатерина Григорьевна, поняв, что чернь явилась по ее душу и не надеясь на крепость ворот, спряталась в бане под полок: там не найдут.
Однако помощь из Кремля подоспела вовремя. Прибежала рота стрельцов с алебардами, оттеснила толпу, разогнала и согласно царскому приказу приступила к охране подворья князя Шуйского.
Ночью был призван во дворец сам Дмитрий Иванович. Царь с ходу напустился на него:
— Это ты, что ли, велел ей извести Михаила?
— Да ты что, Василий Иванович? Ни сном ни духом.
— Думаешь, я так тебе и поверил?
— Ей-богу, Василий. И Катя же ни при чем.
— Ты про свою Катю помолчи. Знаю я ее. И не божись попусту. Вот что теперь прикажешь делать?
Мялся князь Дмитрий, что он мог посоветовать.
— Хоронить, что еще.
— Это и без тебя знаю. Кто армию под Смоленск поведет? Ты?
— Давай я.
— И опять без порток прибежишь.
— Ну сейчас со шведами совсем другое дело.
— Ну смотри, Митрий, это в последний раз. Слушайся хоть Делагарди.
В опочивальне царь и жене Марии Петровне выговаривал:
— Твою дурочку Офросинью по-доброму к Басалаю бы отправить, кнутиком погладить.
— За что, Василий Иванович?
— Чтоб не турусила, что не скисло: Михаил следующий, Михаил… Где он теперь? Вот то-то. Тоже мне ведунья выискалась.
— Народ на тебя, батюшка, сказывают, шибко сердится за него.
— Оно и понятно, некоторые его мне в преемники прочили и твоя дура Офросинья тож.
— Ты не осерчаешь на мой совет, батюшка?
— А что ты хотела посоветовать, Мария?
— Вели, батюшка, положить его в Архангельском соборе, где царей кладут.
— Да ты что, Марья, серьезно?
— Еще как серьезно. Ты сразу же всем своим врагам нос утрешь, мол, и впрямь хотел его в наследники назначить.
Василий Иванович помолчал, соображая, потом молвил:
— А что, Мария, пожалуй, ты права. Так мы и створим.
И на пышных царских похоронах князя Скопина-Шуйского в Архангельском соборе царь первым кинул горсть земли на гроб и, заливаясь слезами, отступил в сторону, уступая место близким родственникам покойного.