Скопин-Шуйский. Похищение престола - [145]
Придя домой, спросил свою любезную женушку:
— Мария Петровна, это котора баба наворожила Тушину гореть синим пламенем?
— Офросинья-юродивая, Василий Иванович. Сказала, через месяц сгорит осиное гнездо, и как в воду глядела.
— Ты ее позови как-нито к нам. Хочу об одном деле поспрошать, пусть поворожит. Зови как бы к себе по женскому делу, угости хорошо. А я вроде случайно зайду. Интересно, что скажет ведунья.
— Она боится-то правду баить, батюшка.
— Отчего?
— Да, грит, за спиной иного такое вижу, что скажу — ведь убьет, изурочит.
— Я не за себя спрошу, пусть не боится.
Царица Мария Петровна жена послушная, уже на следующий день велела отыскать Офросинью-юродивую и привести к ней. Усадила в домашней столовой за стол, как и велено было, угощала немудреным сочивом, медовой сытой. Хмельным не решилась баловать, еще спьяну-те наворожит чего ни попадя. Разговор вела за жизнь.
Когда вечером явился Василий Иванович домой, заглянул в приоткрытую для него дверь из столовой. Увидел юродивую, уплетающую за обе щеки угощение, подумал с осуждением: «Во дорвалась дура-то, никакого тебе атикету».
Но вошедши как бы случайно в столовую, молвил с наигранным удивлением:
— О-о, у нас гостья. Здравствуй, Офросиньюшка.
— Здравствуй, царь-государь, — отвечала юродивая без должного трепету, даже не отрывая задницу от стула. Но что с дуры взять, стерпел царь. А она-то что понесла, не дала и с мыслями собраться: — Ну спрашивай, царь-государь, раз пришел.
— С чего ты взяла, что я спрашивать должен?
— С крыши, батюшка. С крыши, где пасутся мыши да кота на них нет.
«Во дура-то, пошла-поехала», — едва подумал царь, как Офросинья продолжила:
— Конечно, дура я, царь-государь, даже вижу, о чем спросить хотел.
Шуйский поперхнулся, выдавил:
— О чем же?
— Кто после тебя на престол сядет. Верно?
«Вот сука, не в бровь — в глаз угодила».
— И кто же? — спросил вмиг пересохшим языком.
— Не тот, на кого думаешь, батюшка, не тот. Сядет вьюноша, лазорев цвет.
— Имя? Имя его? — просипел Шуйский.
— Михаил, батюшка, Михаил…
Показалось царю, что качнуло его, пошел вон из столовой, до конца играя роль случайно вошедшего. Прозревая не глазами, нет, в них потемнело от услышанного, прозревая сердцем, душой: «Ах, Миша, племянничек дорогой. Вона че удумал-то. Вона. На дядю, на родного… А я-то уши развесил, старый дурак. Рот разинув, слюни распустил. Ах! Ах!»
19. Победитель опасен
Яков Делагарди всегда у князя Скопина гость дорогой. Оно и понятно: ратное поле сдруживает крепче родства. Вот и на этот раз, поговорив о приготовлениях к походу, сели вдвоем за стол. Фома, как водится, принес корчагу хмельного меда, рыбку жареную, икорку черную, яблоки моченые и калачей свежих. Все поставил на стол, наполнил чарки и исчез, оставив воевод вдвоем.
После первой же чарки Делагарди заговорил:
— Михаил Васильевич, надо скорей идти на Смоленск.
— А чем коней кормить будем, Яков?
— Дело не в конях, Михаил.
— А в чем?
— Мне не нравится, как к тебе при дворе стали относиться.
— Мне, может, тоже не нравится, Яков Понтусович. А что делать?
— Делать то, князь, на что мы с тобой назначены — воевать. А при дворах… при любых и при нашем тоже одно занятие — поедать друг друга, кто кого опередит.
— Я никого не собираюсь есть, — отшутился Скопин.
— Тебя съедят, Миша, тебя. Вот чего я боюсь.
— Не бойся, Яков. Подавится, — молвил твердо Михаил Васильевич, наполняя чарки. — Ты лучше напомни Горну о пушках. Пусть лично все принимает после ремонта.
— Еверт знает свое дело, Миша, а на лишний помин может обидеться.
— Вот этим мне и нравятся шведы, — сказал Скопин. — Прикажешь ему и можешь не беспокоиться, сделает все в лучшем виде. А нашему долбишь, долбишь… Пока он рукава засучит, пока развернется. Плюнешь, да и сам сделаешь.
Делагарди засмеялся, похлопал ласково Скопина по плечу:
— Эх, Миша, Миша, хороший ты человек. А беречься не умеешь.
— На рати беречься — победы не видать, Яков.
— Я не о рати, я о завистниках. Слишком много их у тебя при дворе. А это чревато…
— Ну хорошо, Яков, перед маем выступим.
— За сколько дней?
— За неделю.
— Ну вот это уже другой разговор. За это не грех выпить.
У храма Покрова на Рву сидел гусляр на ременном стульце, перебирая струны, пел подсевшим осипшим от старости голосом:
Ах как хотелось Дмитрию Ивановичу пнуть по этим гуслям Ногой, чтоб разлетелись на щепочки и дать оплеуху этому гугнявому старикашке, слеподыру несчастному. Гусляр и впрямь был слеп или прикидывался незрячим.
Ударь такого, мигом сотня заступников сыщется. Эвон развесили уши, слушают. Тронь старикашку пальцем, взовьются как бешеные: «Ах ты убогого! Да мы тебя!» И ведь побьют, не посмотрят, что князь. Чего доброго, и убить могут.
Зато надо братца царствующего порадовать. Все не верит, все отмахивается, еще и посохом норовил ударить. Прибежал Дмитрий во дворец: «Где царь?» «В Думе, в Грановитой».
Прождал до обеда у кабинета в приемной. Появился Шуйский с Мстиславским, кивнул брату: погоди, мол. Дождался, когда ушел от него Мстиславский. Вошел, прикрыл плотно дверь за собой:

Историческая трилогия С. Мосияша посвящена выдающемуся государственному деятелю Древней Руси — князю Александру Невскому. Одержанные им победы приумножали славу Руси в нелегкой борьбе с иноземными захватчиками.

Роман Сергея Мосияша рассказывает о жизни Михаила Ярославича Тверского (1271-1318). В результате длительной междоусобной борьбы ему удалось занять великий престол, он первым из русских князей стал носить титул "Великий князь всея Руси". После того как великое владимирское княжение было передано в 1317 году ханом Узбеком московскому князю Юрию Даниловичу, Михаил Тверской был убит в ставке Узбека слугами князя Юрия.

Известный писатель-историк Сергей Павлович Мосияш в своем историческом романе «Святополк Окаянный» по-своему трактует образ главного героя, получившего прозвище «Окаянный» за свои многочисленные преступления. Увлекательно и достаточно убедительно писатель создает образ честного, но оклеветанного завистниками и летописцами князя. Это уже не жестокий преступник, а твердый правитель, защищающий киевский престол от посягательств властолюбивых соперников.
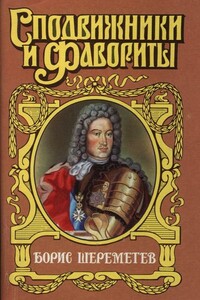
Роман известного писателя-историка Сергея Мосияша повествует о сподвижнике Петра I, участнике Крымских, Азовских походов и Северной войны, графе Борисе Петровиче Шереметеве (1652–1719).Один из наиболее прославленных «птенцов гнезда Петрова» Борис Шереметев первым из русских военачальников нанес в 1701 году поражение шведским войскам Карла XII, за что был удостоен звания фельдмаршала и награжден орденом Андрея Первозванного.
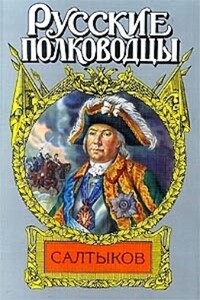
Семилетняя война (1756–1763), которую Россия вела с Пруссией во время правления дочери Петра I — Елизаветы Петровны, раскрыла полководческие таланты многих известных русских генералов и фельдмаршалов: Румянцева, Суворова, Чернышева, Григория Орлова и других. Среди старшего поколения военачальников — Апраксина, Бутурлина, Бибикова, Панина — ярче всех выделялся своим талантом фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, который одержал блестящие победы над пруссаками при Кунерсдорфе и Пальциге.О Петре Семеновиче Салтыкове, его жизни, деятельности военной и на посту губернатора Москвы рассказывает новый роман С. П. Мосияша «Семи царей слуга».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
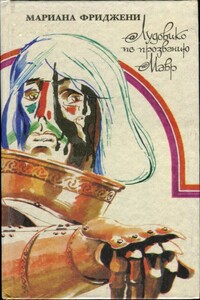
Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.
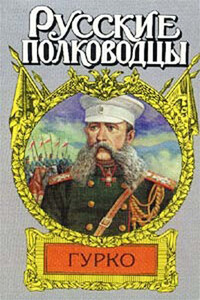
О жизни прославленного русского полководца И. В. Гурко (1828–1901) рассказывает новый роман известного писателя-историка Б. Тумасова.
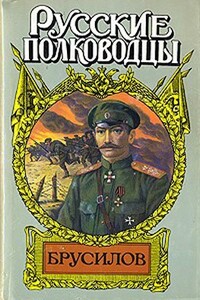
Роман прекрасного русского писателя Ю. Л. Слезкина (1885–1947) посвящен генералу Алексею Алексеевичу Брусилову, главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта во время Первой мировой войны.
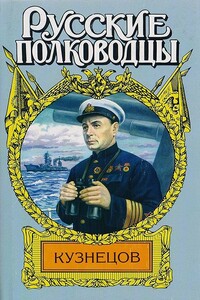
О прославленном флотоводце, главнокомандующем Военно-морскими силами СССР, адмирале флота Николае Герасимовиче Кузнецове (1902–1974) рассказывает новый роман писателя-историка А. М. Золототрубова.
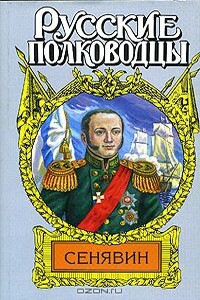
Новый исторический роман современного писателя Ивана Фирсова посвящен адмиралу Д. Н. Сенявину (1763–1831), выдающемуся русскому флотоводцу, участнику почти всех войн Александровского времени.
