Сан-Ремо-Драйв - [68]
— Нет! Это сентиментальность! Распущенность! Терпеть этого не могу. Послушай меня. Я еду к Барти. Сажусь в машину. Я заберу мальчиков. Докажу тебе, что справлюсь. У нас будет веселье. Дом будет полон смеха! И ты улетишь с легким сердцем.
— Не выдумывай. Ты не можешь ездить в темноте. Твоя «хонда» старше тебя.
— Ха-ха! Это правда — жаль, что у машины не Мафусаилов век. О, у меня изумительная идея. Ты поезжай. Возьми детей. Я встречу тебя на Сан-Ремо-Драйв. Не абсурд ли, что я столько лет туда не заглядывала? Ты говорил, что повесил тот портрет над камином. Я была растрогана. Да, просто глупость, что я не хотела видеть наши старые вещи. Если сейчас же выеду, могу успеть туда до темноты. Соберу чемодан. Вот моя мысль! Буду нянчить их дома. Пусть играют с друзьями и лазят на пробковый дуб, как вы с Барти. Дома им будет веселее! Знаешь что? Я захвачу костюм. Всё как в старые дни — буду плавать в своем бассейне.
— Тебе нельзя ехать! — крикнул я. И чуть не добавил: «Разбили твою люстру». — Это опасно. Уже стемнело. Оставайся дома, ладно? Обсудим все завтра. Барти там с ума сходит.
— Нет, нет, если ты мне не пообещаешь. Обещай! Ведь я никогда ни о чем не просила. Ты будешь во всех журналах. Ты будешь обедать в Пале-Рояле. Я знала, что когда-нибудь ты будешь висеть рядом с Леонардо! Я знала это давным-давно. С Леонардо, в Лувре.
— Не в Лувре.
— Замолчи. Это то же самое.
— Поговорим позже. Я позвоню тебе из дому. Хорошо? Лотта, отпусти меня.
Ответа не было. Она повесила трубку.
Обратно на прибрежное Тихоокеанское шоссе. Через Санта-Монику и Оушн-Парк. Перед причалом в Венисе свернул на Спидуэй, оттуда сразу на Двадцать девятую авеню и оставил там машину. Барти жил в одном из старых домов, где с подоконников свисала неухоженная герань, а жалюзи либо покосились, либо в них не хватало планок. Я знал, что звонок испорчен, и зашел по проулку сзади. Там он и сидел, как правило, и садил свои «Кул», громоздя страницу на страницу рукописи. Это, как он часто объяснял, век шудры[108]. Все мужчины и женщины нашего времени живут под покрывалом Майи. Но он на это не поддается. Другими словами, его рабочий день только начинался, тогда как все обитатели Лос-Анджелеса располагались перед телевизорами, чтобы получить свою вечернюю порцию опиума.
— Привет, Барти, — крикнул я из-за острого штакетника задней ограды. — Ты здесь?
Молчание. Через покосившуюся калитку я вошел в нечто, напоминающее ботанический сад. Стены обросли мхами, кочедыжником и гроздовником — прямо видение Старого Юга. Посередине, как у нас когда-то на Сан-Ремо, стояло перечное дерево, ощетинившееся твердыми красными ягодами. Барти устроил три прудика, с маленькими мостиками и маленькими лодочками. Я посмотрел на карпа, разевавшего рот. Гладиолус, ирис, живокость — всех цветов названия не вспомнить. Львиный зев, кажется. То ли аризема, то ли хризантема. Был, естественно, и железный Будда, улыбающийся и спокойный, руки на коленях ладонями вверх. Какого черта? Я тронул его нос, на счастье.
Брат сидел за круглым металлическим столом, лампа светила из-за его плеча. Дым сигареты облепил его, как некая разновидность мха.
— Вот ты где! Что с тобой? Ты меня не слышал?
Он не поднял глаз от рукописи. Губы его шевелились, сопровождая процесс письма.
— Бартон!
Он наконец поднял голову.
— Ты, брат? Сейчас не могу с тобой разговаривать. У меня рабочее время. Я — как раб на галере. Заключенный на хлебе и воде. Вот что требует от нас искусство.
— Я не помешаю тебе писать. Заберу ребят, и мы отбудем.
— Я не пишу. Переписываю. Надо править пунктуацию. Массы требуют знаков препинания. Вот почему Спилберг не стал читать. Из-за точек с запятой, брат! И запятых. Он — как все остальные. Дает им то, чего они хотят. Автомобильные погони, перестрелки, бойкие девицы. Чего еще ждать от капиталистической культуры? Свифт назвал этих людей «йэху». Они не понимают никакой тонкости. Только и знают, что смотреть телевизор. Насвистывают Бинга Кросби. Это век шудры. И на живопись твою никто не посмотрит. Норман был художник. Изысканный художник. Класса Любича[109]. Он, наверное, в гробу переворачивается.
— Барти, мне сейчас не до этого. Только скажи, где мальчики. Спят наверху? Я их не слышу.
— Мальчики? Ты имеешь в виду Эдуарда и Майкла? Почем я знаю, где они? Они меня отвлекали. Я сказал им, что всегда сажусь работать на закате.
— Как это — ты не знаешь, где они? Они ведь были здесь? Ты позвонил и сказал, что Марша их оставила. Где они сейчас?
— Я не нянька, брат. Это не мой стиль. Я не обязан мириться с этим раздражением. Они у меня в печенках. Вверх по лестнице! Вниз по лестнице! Я сказал им, что мне необходим покой. А они бросались камнями в моего китайского карпа.
Я не стал его дослушивать и распахнул заднюю дверь.
— Эдуард! Майкл! Это я! Папа!
Внизу никого не было. Я бросился наверх. Не могут же они так крепко спать? Я влетел в спальню Бартона. Горела свеча, распространяя запах благовоний. На кровати никого не было. Я обошел остальные комнаты и все время звал ребят. Дом был пуст. Я вышел наружу.
— Барти, перестань писать, оторвись на минуту.
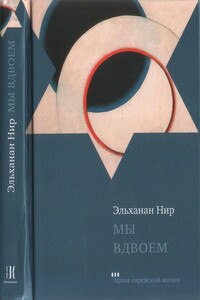
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
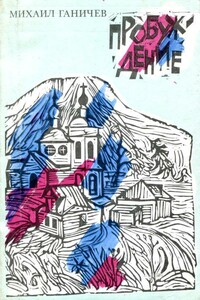
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.