Рыцарь духа, или Парадокс эпигона - [18]
Похоронное бюро
Видение
В казарме
1918–1919 <гг.>
«Vechia zimarra, senti» (IV акт «Богемы»)
Мы
Прелюд Шопена (or 28, № 13)
Гость
Дачная опушка

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.
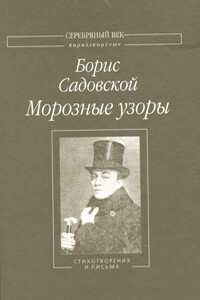
Борис Садовской (1881-1952) — заметная фигура в истории литературы Серебряного века. До революции у него вышло 12 книг — поэзии, прозы, критических и полемических статей, исследовательских работ о русских поэтах. После 20-х гг. писательская судьба покрыта завесой. От расправы его уберегло забвение: никто не подозревал, что поэт жив.Настоящее издание включает в себя более 400 стихотворения, публикуются несобранные и неизданные стихи из частных архивов и дореволюционной периодики. Большой интерес представляют страницы биографии Садовского, впервые воссозданные на материале архива О.Г Шереметевой.В электронной версии дополнительно присутствуют стихотворения по непонятным причинам не вошедшие в данное бумажное издание.

Русский американский поэт первой волны эмиграции Георгий Голохвастов - автор многочисленных стихотворений (прежде всего - в жанре полусонета) и грандиозной поэмы "Гибель Атлантиды" (1938), изданной в России в 2008 г. В книгу вошли не изданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей Библиотеки Колумбийского университета, а также перевод "Слова о полку Игореве" и поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей "Возрождение".

Николай Николаевич Минаев (1895–1967) – артист балета, политический преступник, виртуозный лирический поэт – за всю жизнь увидел напечатанными немногим более пятидесяти собственных стихотворений, что составляет меньше пяти процентов от чудом сохранившегося в архиве корпуса его текстов. Настоящая книга представляет читателю практически полный свод его лирики, снабженный подробными комментариями, где впервые – после десятилетий забвения – реконструируются эпизоды биографии самого Минаева и лиц из его ближайшего литературного окружения.Общая редакция, составление, подготовка текста, биографический очерк и комментарии: А.
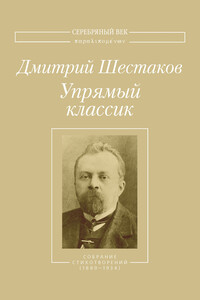
Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937) при жизни был известен как филолог-классик, переводчик и критик, хотя его первые поэтические опыты одобрил А. А. Фет. В книге с возможной полнотой собрано его оригинальное поэтическое наследие, включая наиболее значительную часть – стихотворения 1925–1934 гг., опубликованные лишь через много десятилетий после смерти автора. В основу издания легли материалы из РГБ и РГАЛИ. Около 200 стихотворений печатаются впервые.Составление и послесловие В. Э. Молодякова.