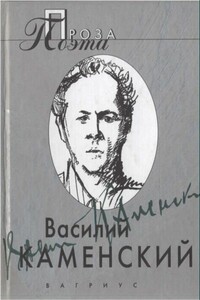Суть, разумеется, не в трусости, а в воспитании: нас с детства запугивали религией, наказаниями, сказками про всякую ночную чертовщину, про покойников да утопленников.
И теперь это отражалось в сновидениях и не редко наяву в ночные, глухие часы.
Да и непривычная обстановка делала свое беспокойное дело.
Я все это понимал отлично, даже свыкся со своим гробом, но тем не менее желал себе лучшей участи: ведь не для бюро похоронных процессий решил изменить жизнь.
И скоро дождался.
В Николаев на пасху приехала драматическая труппа во главе с Вс. Э. Мейерхольдом.
Побежал в театр проситься на службу, чтобы, получив заработок, уехать к берегам новых дней, подальше от гробов.
Мейерхольд – такой раскудрявый с большими носом и широкими жестами – сразу принял на службу и тут же вручил небольшую роль студента, который должен был читать на вечеринке стихи.
Дома, в складе гробов, я моментально выучил наизусть роль и явился утром на репетицию без тетрадки.
Когда все репетировали с тетрадками под режиссерством Мейерхольда и очередь дошла до меня, Всеволод Эмильевич строго крикнул:
– Эй, Васильковский, где же ваша тетрадь?
Я гордо ответил:
– Все выучил наизусть и в тетрадке не нуждаюсь.
Мейерхольд блеснул веселыми зубами:
– Вот это здорово! Молодец!
И когда, согласно роли, с пафосом начал читать стихи – остановил суфлер и заявил, что читаю не те стихи.
Я заявил:
– Могу прочесть и те, но они глупы, бездарны и не достойны передового студента.
Для доказательства прочитал и те, по пьесе.
Мейерхольд согласился:
– Да, пакость. Но чьи же эти новые стихи?
Пришлось от смущенья наврать:
– Валерия Брюсова.
Сгоряча поверили.
И когда с успехом кончился спектакль, Мейерхольд мне сказал:
– Хорошо, но таких стихов Брюсова не помню.
Тут, краснея, сознался:
– Я сочинил сам.
Всеволод Эмильевич вдруг просиял, заинтересовался моей судьбой и, выслушав мое решение оставить сцену, энергично поддержал:
– Да, да, лучше оставить, лучше, интереснее заниматься литературой, лучше учиться, а провинциальный театр – болото, ерунда. Провинциальный театр отнимет все и ничего не даст.
За все время моих актерских скитаний Мейерхольд в первый раз произвел крепкое впечатление культурного, сведущего в делах искусства мастера с обаятельным темпераментом.
По скромности и опыту я даже не предполагал, что режиссером может быть такой замечательный, работающий, как фонтан, человек.
Правда, его тогдашние постановки не отличались новизной, но все играли превосходно.
Театр грохотал от успеха.
И все-таки один раз произошло необыкновенное: Мейерхольд организовал вечер поэзии «декадентов» – Брюсова, Блока, Вяч. Иванова, Бальмонта, Сологуба, Кузьмина, Андрея Белого.
Актеры читали стихи новых поэтов в черных одеяниях среди черных сукон, при больших свечах, с аналоем посредине сцены.
Публике сие «святотатство» (намек на церковь) не понравилось, и мистические стихи вызывали зевоту, сон, тоску. Никто ничего не понял. Но разговоры о затее остались.
Подходило лето, сезон доживал дни.
Однажды перед репетицией Мейерхольд обратился ко мне:
– У вас, Васильковский, кто-то умер?
– Никто.
– Да мы сами видели, как вы заходили в похоронное бюро.
Сквозь слезы стыда еле вымолвил:
– Это я в гости заходил.
Актеры хохотали:
– Ну, и гости. Благодарим покорно. Да тут и мимо-то ходить страшно. Брось, Васильковский, этих гостей, пока они тебя не сцапали по-мертвецки.
С этой минуты я входил домой, осторожно озираясь – не видят ли актеры.
Сезон кончился.
Я получил расчет сполна и с радостью навсегда распрощался с театром.
Актер Васильковский великолепно «тихо в бозе скончался», бесповоротно умер.
Театр и зрители от этой «тяжелой утраты» – выиграли. Безусловно.
Теперь решил так: поеду домой, в Пермь, на Каму – там привольно бегают пароходы, там в густых лесах поют птицы, там осталось покинутое гнездо.
Туда и тянуло нестерпимо, чтобы на Каме собрать свои мысли, наблюдения, опыт скитаний, познанья о людях и городах и там обдумать, как быть более полезным для живущих в бедности непроглядных будней.
Захотелось снова увидеть товарищей из редакции «Пермского края», побывать опять в кружке Матвеевых, где жили интересами революционной подпольной работы.
Прежде мало знал жизнь, мало ценил общее дело борьбы, мало верил в силы свои, – теперь, многое испытавший, перевидевший, выросший, прозревший, с неодолимым порывом рвался к иной были.
Неизменно-жизнерадостный, всегда смеющийся, деятельный, опытный марксист-подпольщик П. А. Матвеев, только что освобожденный из тюрьмы, с восторгом встретил мое возвращение и немедленно помог устроиться таксировщиком в товарную контору железной дороги Нижне-Тагильского завода.
Уральский центр чугуна, медной руды, золота и платины, громаднейший старинный демидовский завод, лесные горы, шахты, рабочие, служащие, товарная контора, пыль, дым, трубы, домны, деревянные низкие дома, – вот где я находился теперь, таксируя дубликаты накладных с 6-ти часов утра до 6-ти вечера, с часовым перерывом на обед.
И я торжествовал..
Но не от каторжного труда ликовало сердце, а от двух причин.
Во-первых, в екатеринбургской газете «Урал» печатались на самом видном месте мои стихи, отточенные гражданским сознанием, а во-вторых, – я вел активную подпольную работу среди рабочих завода и железнодорожных мастерских.