Просто голос - [5]
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Слепой в лесу
I
Отцу моей матери, вождю одного из кельтиберских племен, за дружбу и неизменную верность Риму в период мятежа Сенат и римский народ даровали гражданство и возвели его во всадническое достоинство.
Мать, по воспоминаниям домочадцев, по легендам даже, была женщина неповторимой красоты, и, не имей она в приданом всаднического кольца, моего отца и это, пожалуй, не остановило бы, даром что он до конца дней мечтал вернуться в Сенат и завещал эту надежду мне. Он любил мою мать, несмотря на полную взаимность, какой-то безнадежной, обреченной любовью, и, когда, вернувшись с долгой прогулки, я застал отца над ее остывающим телом — она умерла от укуса невиданной в наших местах змеи, в собственной спальне, в какие-нибудь полчаса, — я не заметил в нем ни скорби, ни гнева, а лишь просветление, как бы потому, что ужасное неизбежное наконец сбылось и больше не надо отсчитывать дни и часы иссякающего счастья. Исполнив положенное на похоронной церемонии, он удалился и дней пять не показывался нам на глаза, не прикасался к еде, не желал видеть даже Парменона, так что мы не чаяли найти его в живых. Но он появился, без тени на челе, и тотчас сел за свою переписку — плести тончайшую и тщетную паутину, опутывающую всю империю, или так ему казалось, о которой я в ту пору ничего не подозревал и которая впоследствии легла на меня бременем нежеланной чести.
Мать, разумеется, не смела учить меня испанскому наречию, на котором говорила только с сестрами, а иногда пела с ними, но лишь тайком от отца, от которого, наверное, у нее не было других секретов. Говорить со мной по-латыни она стеснялась, да и почти не могла, и моим первым языком оказался греческий, за вычетом тех латинских формул, без которых невозможно было обойтись в общении с отцом. Отец же, видимо, считал мой греческий мальчишеской позой, похвальбой зубрилы, и лишь после смерти матери, как-то за Кикероном, постиг всю глубину моего невольного невежества. От акцента я впоследствии с немалым трудом избавлялся уже в римской школе, и одноклассники, не отличаясь снисхождением, дразнили меня Испанцем, хотя я просто выговаривал латинские слова на греческий манер.
В детстве я довольно туманно понимал свою роль отпрыска имперского народа, а отца до времени занимали лишь внутренние рычаги власти в далеком Риме, с которым его связывала незримая пуповина, но которого ему так больше и не довелось увидеть. Товарищами моих игр были мальчики-рабы, и, когда мы затевали вечные наши битвы Аннибала со Скипионом, мне вполне естественно, как старшему, выпадала роль первого, остававшегося в Испании бесспорным героем, тогда как римским полководцем я назначал мальчика, чем-либо угодившего мне в этот день. Порой, увлекшись, мы в корне меняли движение событий: Аннибалу растворялись двери Капитолия, куда он каким-то образом въезжал на боевом слоне, милостиво жалуя пощаду побежденным, а затем, оставив Скипиона в консульском звании и завещав свято хранить отеческие свободы, отбывал куда-нибудь в Асию умножать владения импровизированного римско-карфагенского союза.
Чего мне никогда, несмотря на все мольбы, не выпадало, так это побыть Юлием Кайсаром. Отец, как видно, полагал его прямым виновником падения республики, хотя вслух об этом ничего не было, да и сомнительно, чтобы он снисходил до обсуждения политических материй с дядькой, над которым обычно подтрунивал и которому нарочно задавал глупейшие вопросы, выставляя его карикатурным философом, — он, впрочем, вполне и был им, со всклокоченной черной бородищей, в нечищеном драном плаще, с вечно волочащимися в пыли ремешками сандалий, так что нередко, в разгар какой-нибудь Нумантийской битвы, он, к обоюдному веселью враждующих лагерей, валился навзничь, мордой в пыль.
Запрет, наложенный на Кайсара, не распространялся на его предшественников, и я мог, по выбору, гарцевать то Марием, то Суллой, то Помпеем. Предпочиталось, чтобы римляне не шли на сограждан, и поэтому Антоний в его распрях с несомненно ненавистным Августом часто выпадал из репертуара, хотя Сулле, бесспорному герою, все сходило с рук.
С отцом, которого все мы, от детей до пропеченных на солнце чесальщиков льна, едва ли не боготворили, который был молчалив и участлив, пока дело не касалось чести семьи и отечества, меня рознило не сознаваемое мною в ту пору, но впоследствии отчетливо проступившее отношение к земле, на которой мы жили. Если для меня, до поры не знавшего иного неба, иного моря и города, не видевшего ничего странного в том, что многие из жителей, как и сам я, не вполне в ладах с латынью, это был единственный и настоящий дом, ревностью по которому, пусть не всегда осознанно, была пронизана вся моя дальнейшая жизнь скитальца вдали от отчего очага, для него, несмотря на всю любовь к матери, которой, впрочем, Тарракон тоже не был родиной и которая тосковала не меньше него, это была земля горького изгнания, и несбывшиеся надежды, надо думать, стояли у него горьким комом в горле и в час кончины. Несмотря на всю его внутреннюю собранность и упорство на пути к чисто воображаемой цели, отец был, как теперь очевидно, сломленным, глубоко несбывшимся человеком — в каком-то смысле еще менее сбывшимся, чем я в мой черед, потому что мне уже не было убежища в обмане. Мне довелось впоследствии встретиться со многими, знавшими его прежде, но в их рассказах представал совершенный незнакомец. Иллюзии юношества изживаются, и моим пора настала рано, а он сумел, или просто ему пришлось, сплавить их в одну великую и беззаветную, и так и окончил дни в несостоявшейся, даже бессильной состояться республике ссыльного рассудка. Порой, как ни больно, приходит в голову, что все то время, что я знал его, он был поврежден в уме, но лучше не забегать вперед времени, потому что оно все равно нагонит.
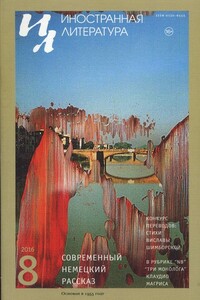
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
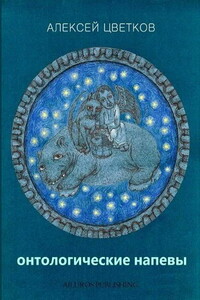
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.
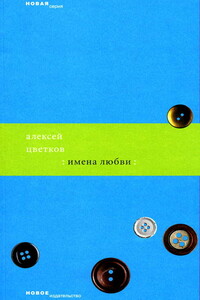
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
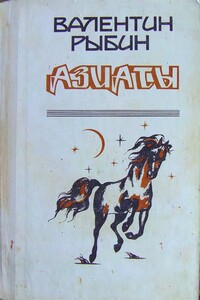
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
