Просто голос - [3]
Так где-нибудь в Германии, лениво перебрасываясь с солдатами видавшей виды шуткой, в пыли молниеносного суточного марша, я вдруг на миг обмирал от подступившего небытия времени, не имевшего ничего общего с обыденной военной смертью, которая была к тому же атрибутом жизни, то есть временного, то есть невозможной наградой. За лагерным забором вставал непуганый лес с его северной дичью, тяжкие сосны скрипуче ворочались под ветром, усыпанным сверху звездами, из-под ног сосен терпеливо спускался к реке васильковый луг, но вся эта неубедительная, хотя и мастерски выполненная декорация вдруг отставала от грубой основы, и в открывшуюся щель сочилась убыль, выхватывая мгновение нашего смеха или только моего, — он оставался как бы проеденный молью, и приходилось рывком выносить себя на противоположный берег обвалившегося разговора, строго одергивать и удаляться к офицерской палатке. Или на проверке караулов, когда оборванное слово пароля… Впрочем, я заговариваюсь.
Мои собственные взгляды на суть происходящего сложились довольно рано, и в речах учителей я всегда искал не столько откровения, сколько подтверждения известному. Но при этом я взял себе за правило никогда не окостеневать до той степени, когда слово оппонента начисто лишается убеждающей силы, — меня всегда занимала сама возможность, что человек, равный мне по уму и развитию, может видеть мир совершенно по-иному и толково излагать свои мнения. Тут, надо полагать, сказалась армейская выучка, позволяющая в момент беспрекословного приказа поступаться личной волей и подменять ее волей командира, от которой, как можно было увидеть, тянулись цепи оценок, рассуждений, решений. Мне на моем веку порой везло на командиров, и в миг победы их сердца были для меня прозрачны. Отсюда, надо полагать, и происходит моя репутация образцового собеседника, позволявшая мне порой вникать в традиции и советы, закрытые большинству равных мне по рождению. Именно в кругу последних, с их ледяной сенаторской беспрекословностью мнений, меня не раз одолевала неловкая неприязнь одиночки, как бы слепца, которому сунули на ощупь очевидное, и надо тотчас тактично солгать, чтобы не выставлять на всеобщее посмеяние досадный, хотя вчуже и простительный недостаток. Даже лучший из них, чья жизнь столь блистательно угасла не в очередь раньше моей, хотя уже недолго, даже и этот сентиментальный мудрец над этажом публичных бань порой приходился им точно вровень, и для него не было уже никаких «почему», а лишь сплошные «как» с ответом на каждое. Только среди них, силясь выдать себя за такого же, случалось мне ввериться обману. Впрочем, это давнее, и стыд на щеках вполне поблек.
Солнце уже на полдневном гребне, тогда как я, не раз уступив стариковской дремоте, успел лишь немного покружить у избранного предмета, так и не выжав из себя нужного признания. Тень яблонь ушла в сторону, и надо бы кликнуть Филиппа, чтобы передвинул топчан, но недостает голоса. Раньше, однако, он не дожидался зова и в, момент нужды всегда оказывался рядом, но «хремя» властно и над ним. С тех пор как не стало Елены, я решительно удалил от себя всю женскую прислугу — не из ханжества, потому что опасность давно отлегла, да и подстерегала, скорее, с другой стороны, но во избежание исходящего от женщин, этих младших сестер человека, соблазна легкоумия. Вдруг как-то само собой сложилось, что записки, затеянные просто со скуки, чтобы скоротать время в палатке, настолько овладели жизнью, что урывать от отведенного им досуга сделалось невозможным. Никогда прежде на Филиппа пенять не приходилось, а отправить его сейчас на покой значило бы поразить старика насмерть. И я терпеливо лежу под немилосердным июньским солнцем, отхлебывая из фляги и плеща на скудные седины, в надежде, что домашние вспомнят обо мне и придут на помощь.
Но, возвращаясь к обещанному, прежде всего хочу заверить, что не тщусь навязаться в мемуаристы веку, изобилующему людьми куда более достойными и самолюбивыми. Вместе с тем это, конечно же, не просто личный дневник, и такое предуведомление полагает целью рассеять сомнения, возможные и с моей стороны. Оставляя в силе все сказанное выше, я, тем не менее, как бы дерзаю овеществить эфемерное и положить эту шкатулку доказательством моего краткого пути из небытия в ничто. Единожды пожив, человек, даже вконец преодолевший ужас предстоящего исчезновения, все же не в силах смириться с мыслью, что он мог вообще никогда не существовать и что факт его посмертного отсутствия может быть принят именно за такое положение вещей. Более того, воплощая свою негромкую жизнь в слова, я вместе с ней вытягиваю на поверхность доставшихся ей в попутчики, и такая услуга друзьям и недругам — весьма скромная плата за удостоверение собственной неподдельности. И пусть шкатулка, а тем более ее хлипкое содержимое, в конечном счете подлежат тлению, это все же рука, вытянутая над пропастью, с которой другая, в надежде уберечься от небытия в прошлом, силится сомкнуться.
Такого рода публичная, пусть и практически безадресная, исповедь предполагает известный недочет стыда или скромности. Упрек в бесстыдстве в моем случае неуместен, поскольку я уже, как мог, отмежевался от подвигов недорослей и недоумков, последовательно предстающих на этих страницах. Что же касается хвастовства, то умеренность достигнутого, при всей пестроте биографии, наверняка отведет подобное подозрение. Вместе с тем судьба сводила меня с людьми редкой достопримечательности, присутствие которых в повествовании должно в полной мере искупить посредственность посредника. Если же я при этом отвожу своим скромным трудам несоразмерное им место, то лишь потому, что, находясь все эти годы, с единственной позволенной мне точки зрения, в центре событий, я не могу устранить этот центр без ущерба для воздвигаемой здесь частной вселенной, видеть которую вполне со стороны дано лишь бессмертному божеству.
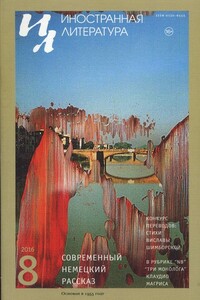
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
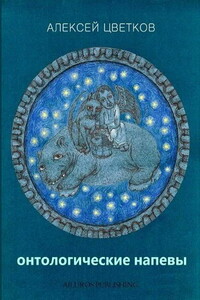
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.
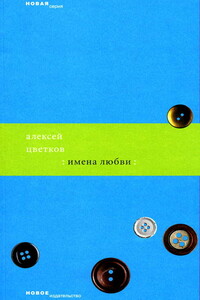
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
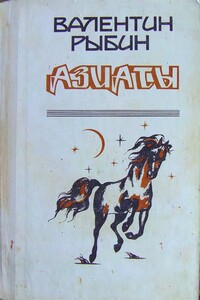
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
