Просто голос - [7]
Меня надлежало назвать Лукием, так уж заведено было у нас в роду. Но традиции дрогнули, тем более что наши лары и пенаты сиротствовали на далеком Квиринале, где дядя, надо полагать, все же не оставлял их без прохладного внимания. Здесь же, в Тарраконе, на видном месте в атрии хмурился бюст М. Поркия Катона-младшего, и отец, переглянувшись с ним в канун моего появления на свет, назвал меня в его честь Марком. Все это, без сомнения, были детали того же неотступного плана, суеверная надежда, что с именем в меня вселится и рвение. План, конечно, увенчался лишь весьма отчасти, но я не имел дерзости даже загробно посрамить отца и годами оплачивал его надежды благочестивым обманом, скромно донашивая имя, предоставленное героическим бюстом.
Не все ли мы, римские дети, населяем свое первое прошлое безногими бюстами и масками, которые разыгрывают события из внушаемых нам уроков? Мне пришлось наблюдать народы — и не только полудиких свевов и васконов, — которым мысль о создании такого подобия усопших, а тем более по частям, казалась еще нелепее, чем оставить самих усопших без погребения, для оживления интерьера и в назидание идущим на смену. Возможно, что они в этом смысле сродни нам, детям, видящим в бронзе, мраморе и воске совсем иную расу существ, не таких теплых и уязвимых, как мы, запертых пыльными свитками в навсегда состоявшееся расписание событий, в то время как нам приходилось гадать о завтрашнем и сомневаться во вчерашнем. Я, впрочем, беру на себя лишнее, расписываясь за всю римскую поросль, — это, скорее, маленький кельтибер во мне, полуотпрыск народа, только что оставившего собственное младенчество, разевал рот на пустоглазые заморские дива. Прямо напротив Катона висела маска нашего предка, поэта, и мне мерещилось, что, живя под нашей крышей без движения, они умеют и говорить без звука, в том числе и обо мне, докладывая друг другу и другим таким же, с позеленевшими лбами, о моих нехитрых проказах. Когда Артемон, втемяшивая в меня историю, докатился до кончины Катона, я умирал со страху, потому что был совершенно убежден, что вот этот, в нашем атрии, и есть настоящий, единственный Катон — такой, каким он стал после своего благородного конца, и что, когда я наложу на себя руки, то есть умру единственным понятным в ту пору образом, у меня не будет больше ни этих рук, ни ног, а только мраморные охряные щеки и полуоблупленные глаза, чтобы перемигиваться с восковым Лукилием. Эти двое стали для меня первым наглядным уроком смерти. Вечером, пока не увели спать, я сидел в этом людном полумраке, принимая свои неожиданные мысли за бестелесный звук голосов умерших.
В детстве я много болел — вернее, я был куда здоровее сестры и братьев, но подвержен какой-то ночной меланхолии, когда вдруг накатывал необоримый страх перед жмурящейся на меня со всех сторон потемневшей жизнью, в которой до утра было нечего делать, чтобы отвлечься; в которой я, еще в пятнах неостывших взглядов пустоглазых калек, начинал полагать себя невольным средоточием и даже источником объявшего землю мрака, насылающим его на все дышащее в округе — на змей и гусениц, на кротких коров в хлеву, на хромого ослика, которого я запретил отдавать живодеру, и он был конницей в наших набегах на луситан, на всех домашних, слабеющих от острия тьмы, вогнанного мной им в зрачки, тогда как настоящий свет, конечно же, и не думал никуда деваться, но об этом никто не подозревал, равно как и во мне — виновника ночи. Еще до сумерек я принимался убеждать себя оставить на этот раз день в покое, остановить грустное время расставания, чтобы можно было по-прежнему носиться по двору за вражескими курами, уплетать утаенный нянькой сыр или с любовью следить, как мать неутомимо прядет свою шерсть. Но я уставал, ночь зажигала чадящие свечи и стучала в стены маленькими летучими чудовищами, а я, стоя во весь рост в кроватке, уже тихонько выл и взвизгивал, пока мать и няня сновали в привычной панике. Их причитания и тревожные расспросы отлетали от меня, как ночные бабочки, — разве мог я, источник обессилившего их зла, исповедаться в объявшем меня ужасе?
Но это была еще безоглядная пора пробуждения от прежней детской полусмерти, не тот теоретический плач сомнения, который одолел меня несколько лет спустя и который мне, из бессилия вразумить мнимых вопрошателей, приходилось мотивировать недугом. Тогда, за вычетом ночи, мне было еще весело и просто быть ребенком, неумело идти нашим тенистым двором с журчащим в чаще амуром, впереди внимательной няни, в облаке такой понятной и бережной любви, в только что подаренном ожерелье из золотых топориков, наковаленок и птиц, с маленьким аккуратным фаллосом посередине, который я теребил и все пытался разглядеть, скосив глаза под подбородок. В портике сада Артемон нарочито и театрально отчитывал Гаия за предполагаемые огрехи в греческом (мы порой перенимали лишнее у дворни), а я, такой маленький и свободный, все стремительнее переминаясь на неловких ножках, но так, что даже и няня не поспевала подхватить, уже летел с порога в подол к матери, которым она, смеясь, опутывала меня и ловила. «Смотри-ка, Юста, какой воробышек впорхнул», шутила она, и няня радостно подыгрывала, пускаясь перечислять вероятные блюда из воробышка, которыми станут лакомиться сегодня господа; но я уже не пугался, помня это меню наизусть, и даже добавлял какой-нибудь паштет, упущенный нерасторопной Юстой. Ее отсылали; мать сажала меня на колени, гладила волосы, взмокшие от усердного бега, и я погружался в завораживающий мир ее бесконечных историй, которым сам воспретил прекращаться: о храбром Вириате, враге и посрамителе римлян, так и не успевших с ним совладать (мать умерла раньше); о Калидонской охоте и беге Аталанты, которая, во избежание скоропостижного конца рассказа, поочередно доставалась каждому из соискателей; и о чем-то уже вовсе диком и неслыханном, о каких-то одноглазых и одноруких старухах, насылающих заклятия, о витязях в пути за чудотворными амулетами, о нежных девах, поверженных в столетний сон настоями из семи трав, которые по пробуждении верно отдавались этим мужественным старцам. Наверное, она сама слышала эти сказки в своем испанском детстве — она рассказывала их каким-то гипнотическим полунапевом, и, бывало, если по ходу действия витязь или дева срывались в песню, она тихонько пела мне ее по-испански, поглядывая на входной полог.
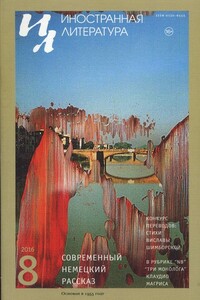
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.
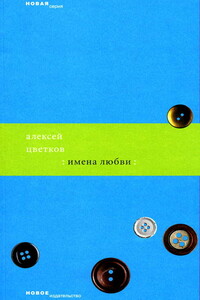
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.
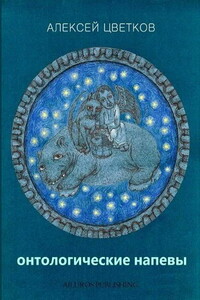
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.

Настоящая книга является переводом воспоминаний знаменитой женщины-воительницы наполеоновской армии Терезы Фигёр, известной также как драгун Сан-Жен, в которых показана драматическая история Франции времен Великой французской революции, Консульства, Империи и Реставрации. Тереза Фигёр участвовала во многих походах, была ранена, не раз попадала в плен. Она была лично знакома с Наполеоном и со многими его соратниками.Воспоминания Терезы Фигёр были опубликованы во Франции в 1842 году. На русском языке они до этого не издавались.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
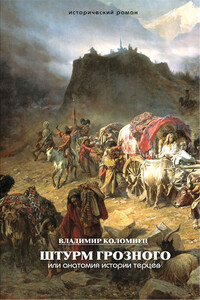
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
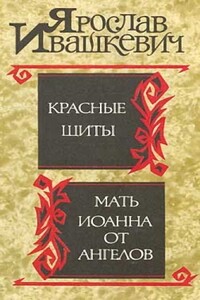
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.
