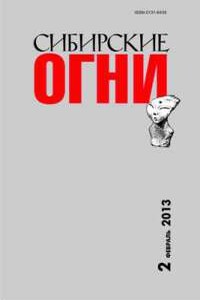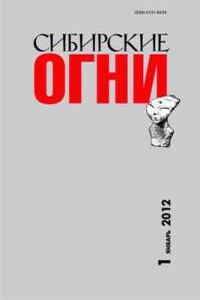С грохотом цепляя сапожищами железный пол автобуса, Ваньша чуть не обрушился на головы. Жорик отвел съежившуюся Долгор к крыльцу, хотел спросить хромоногого, но не успел раскрыть рта — в дверях, появилась толстая продавщица.
— А ну, пошли отсюдова, пьянь подзаборная! — закричала она.— Ить не продам, хошь кому-т жалуйтесь! Хошь перед гостями-т не позорьтесь!
— Перед энтими, че ль?! — заревел Ваньша и начал падать в их сторону. Жорик поспешил уйти.
К дому Ульяны их привел курносый мальчишка. Дом небольшой, усадьба ветхая. Ворота почернели, покосились, стайка зияла выломанной доской, огородная калитка едва держалась на одном шарнире. Хозяйка чем-то напоминала дом: низенькая, горбатенькая, со склоненной набок головой, с обожженной черной щекой. Но в избе было чисто, кружками лежали половики, пахло жилым, жареной картошкой на сале, огурцами.
— Чем бог послал, — сказала хозяйка, усаживая гостей за стол. Ульяна говорила тихо, с трудом передвигалась по избе, охая, жалуясь на ноги. Она подкладывала на тарелки то огурцы, то масло, то яички, жалостливо причитая. Узнав о цели их приезда, Ульяна не удивилась, кивнула понятливо.
Жорик громко сглатывал картошку, сало, яички, глядел в окно на косую, шевелящуюся на ветру калитку, за которой лежала простыня пустого огорода. На душе было ясно. Дальнейшее представлялось незамутненным, как этот снег. У него зачесалась правая ладонь, он натянул кепку, в сенях безошибочно нашел топор, горку гвоздей, обязательный мужской набор — от рубанка до разведенной пилы. Но в каком виде! Жорик побледнел от такого безобразия: заржавлено, запылено, брошено! А ведь в этом доме есть мужчина, он заметил пиджак на гвозде и окурки на подоконнике… Жорик вышел во двор, поудобней перехватил топорище.
Как только гость хлопнул дверью, Ульяна поделилась своей бедой. Долгор напряженно вслушивалась в тихий говор хозяйки с множеством незнакомых, на иной лад, чем в Сибири, произносимых слов.
— Уж не знаю-то, чего-т разуметь! — хозяйка сморкалась, утирая концом платочка глаза. — Уж все жданки прождала, десить годков как уиха-ал… Уиха-ал, уиха-ал, наряженный да лепотной! Счастия искать! Уж как ахтобус-то взыграет, так серденько-т упадет!
Долгор сочувственно кивала, морщилась скорбно: вот ведь как, у хозяйки тоже пропал сын. Оказывается, не в войну. Этого она не могла понять, ко сильно жалела Ульяну…
Жорик, войдя, замер у двери, будто парализованный голосом Ульяны.
— Мороз лютый, а оне-т раздетые, кто и босой вовси-и! Лопаты им дадены, могилки себе рыть…
VI
Во время артобстрела Ульяна с детьми пряталась в погребе. Бой за Березняки шел второй день, и уже ничто не напоминало о недавнем мирном их облике: огороды перепахали, разбросав изгороди, немецкие мины. Окраина села горела, синие шлейфы дыма косо летели в поле, в степь, смешиваясь с аспидно-черными полосами, уносились в серое небо. Там за разрушенной фермой часто полыхало рыжим, ухало, завывало, штопором врезываясь в уши, непрерывно и сухо, как поленья в жаркой печи, трещали выстрелы…
Осев на горку картошки, Ульяна удерживала старшего — Павлушку, тот рвался увидеть бой своими глазами. Младший, трехлетний Игорек, судорожно обнял за шею мать, дремал.
Ночью, когда умолк бой за фермой, они вылезли из погреба. Ульяна завешала разбитое окно одеялом и, засветив огарок свечи, стала укладывать детей спать. В окно постучались, в избу, запаленно дыша, ввалился человек с черным лицом. Ульяна перепугалась, испугался и Тузик, тявкнул, забился под кровать, заскулил. От человека исходил запах крови. Игорек захныкал, старший брат взрослым голосом успокоил: красные, наши. Острые его глазенки и в неровном мигании свечи углядели тусклую звездочку на шапке. Опираясь на винтовку, красноармеец напился, расплескав воду из ковшика, попросил идти к раненым. Нужны простыни на бинты, еда, теплые вещи, если можно… Они там, в клубе… Скорее, просил боец, на рассвете все начнется сначала!..
Колхозный клуб — просторная изба с наглухо заколоченными окнами — был забит людьми. На сцене горели керосинки, по потолку и стенам гуляли тени. У самого входа Ульяна чуть не наступила на кого-то. Раненые лежали на полу, на сдвинутых лавках. И не понять было, кто более стонет, увечные бойцы или бабы… Трещали разрываемые простыни, звенели о бидоны ковшики, пахло несвежим бельем, порохом, мокрой одеждой. Ульяна разодрала простыню на полосы, опустилась на корточки, нашарила руку того, на кого чуть не наступила.
Раненый шевельнул пальцами, что-то прошептал. «Что, родной, что? — склонилась над ним Ульяна. — Где болит?» Он не ответил. Из дверей тянуло холодом. Видать, раненого принесли недавно, положили у порога и ушли в окопы. С помощью односельчанки Ульяна оттащила его поближе к печи. Возле нее, приседая, колдовал дед Стае по кличке Козопас — из-за одной довоенной истории с колхозными козами. Сейчас дед Стае, подтягивая спадающие ватные штаны, шуровал кочергой в печке-голлендке, кричал: «Эва, ерманец-то как оборотился!» Лицо его с козлиной бороденкой в огненных бликах горело гневом, далее он выражался покрепче и яснее.
Ульяна размочила запекшиеся в крови бинты — солдатик был ранен в грудь, нагретой у печи водой обмыла его до пояса. Ей подали бутыль самогона. Вспотев от напряжения, она обработала рану, перебинтовала грудь. Придерживая голову, напоила.