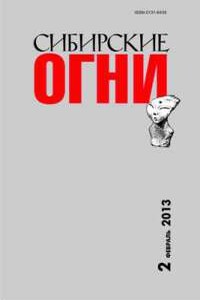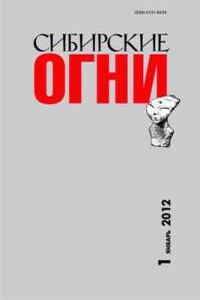Офицер, покашливая, махнул перчаткой, пошел к бронетранспортеру, обмазанному белой краской.
Солдаты бросились к раненым и березняковцам. Осыпая градом ударов, теснили их к распахнутым дверям клуба. В упиравшихся стреляли. Автоматные очереди заглушали стоны и плач.
Ульяна уговаривала сыновей бежать, оставить ее, маленькие, юркие, спи могли проскочить сквозь оцепление. Березняки уже горели, подожженные с двух концов, черные полосы разрезали блеклый диск солнца. Огонь жадно пожирал просушенное временем, облитое бензином дерево.
В смешавшейся толпе слепой и Таня прижались друг к другу, застыли. Ульяна крепко обнимала детей. В клубе было тепло. Раскочегаренная дедом Стасом печь-голландка жила, грела своими боками. Тишина вселила надежды: авось обойдется, потомят для острастки и отпустят, немцы — тоже люди…
Первым почуяла опасность собака. Прибежавший из дома Тузик заскулил, поджав хвост. Кислый угарный дымок вполз в щели. Помещение вдруг сжалось в размерах, стало трудно дышать. Люди кинулись к заколоченным окнам, обдирая в кровь руки, полезли, силясь вырвать доски — в ответ хлестнула очередь из пулемета. Полетели щепки. Но женщины упрямо лезли к окнам, поднимали детей — глотнуть воздуха. Пули крошили дерево, дети без стонов падали на руки матерей. Раненые пытались удержать женщин — их смяли, оттеснили от окон. Дальний угол лизнул язычок пламени, в тот же миг клубы дыма наполнили помещение… Крики ослабли, потонули в треске набиравшего силу пожара.
Прижимая к груди Игорька, Ульяна, задыхаясь от дыма, пробивалась к сцене. Там, за сценой, был запасной выход…
…К вечеру ее, полуживую, подобрали с младшим сыном на руках односельчанки, успевшие спрятаться в погребах. Ульяна, как заведенная, твердила имя старшенького — Павлушки, оставшегося там, в клубе…
Березняков более не существовало. Обгоревшие печные остовы подпирали низкое пепельное небо.
VII
Жорик у двери пошевелил затекшей ногой. Он не знал, что была такая война. Долгор окаменела на табурете, вцепилась в палку.
Тяжело гукнула дверь. Вошедший недобро зыркнул на непрошеных гостей, протопал во вторую комнату, оставляя на полу шметки снега и грязи.
Ульяна с трудом поднялась, прошлепала в комнату. Невнятный, просительный ее шепоток oборвала грубая ругань. Хозяйка вернулась к гостям, посетовала, что Ваньша совсем не хочет есть.
— Сын? — хрипло переспросил Жорик. вспомнив рассказ хозяйки, Ульяна не ответила, не расслышала, наверно.
Все трое сидели молча. Жорик шмыгал несом. Долгор ерзала на табурете, посматривая в окно. Из сбивчивого рассказа хозяйки дома она поняла, конечно, не все, но главное: про солдатика, раненного в грудь и говорившего не по-русски…
В дверь вежливо постучали. В избу, пригибаясь, вошел человек с озабоченным лицом, с висячими, казалось, от постоянной невеселой думы усами. Жорик его узнал — вместе ехали в автобусе. Человек вытер о половичок ноги, пригладил волосы, поздоровался. Ульяна захлопотала у стола.
— Дома напился, тетка Ульяна! — громко сказал вислоусый. — А что, Ваньша-то… все отдыхает?
— Отдыха-ат, отдыха-ат, аппетиту-т никакого! — заохала, привставая с табурета, Ульяна. — Уж вы бы, Кирьян Палыч, с ем бы поговорили…
Кирьян Палыч непонятно хмыкнул, дернул ус, мотнул головой Жорику: «Выйдем!»
— Видал?! — громко сказал он на крыльце, возмущенно сплюнул. Жорик кивнул на всякий случай. Во время Ульяниного рассказа ему стало душно, он не мог надышаться морозным воздухом. Кирьян Палыч, пыхнув папироской, начал жаловаться на бригадирскую долю.
— С утра в райцентр мотался, запчасти выбивать. Собачья должность! Спрашивается, какого шута я должен перед каждым ползать на коленях?! Дожили, понимаешь, ни запчастей, ни людей! Ты мне лучше скажи, с кем я должен хлеб растить?! План давать?! — бригадир будто разговаривал с кем-то невидимым. — Тьфу! Ты погляди, у нас же в Березняках и мужиков-то не осталось! Девкам за стариков, что ль, выходить?!
Жорик припомнил, что его удивило: на пустынней улице было мало детворы.
— Разбежались кто куда! Москву им подавай, лимитчики несчастные! А как в райцентре завод пустили — вовсе беда! Хошь ты волком вой! А вот такие краснорожие… быки средь бела дня в кроватях дрыхнут! Аппетиту, вишь, у него нету! Ханурик!
Бригадир поймал вопрошающий взгляд Жорика, выдохнул дым из ноздрей.
— Да не сын он вовсе! Так… приблудный. Пользуется Улиной добротой! Пьет, жрет, на нее орет, чем не жисть! Я говорю: гони в шею!
На хрена он нужен, шабашник несчастный! В колхозе, вишь, ему несподручно! Лето вкалывает, девять месяцев водку трескает! Видал дружка-то его? Хромого? По пьяному делу на пилораму упал! Так вот и живем…
— Тут ее, Ульяну, понять надо. Один сын на собственных глазах сгорел, другой запропастился куда-то, муж на фронте погиб… Тоскует, старая, жалеет! А Ваньша тем и пользуется, сынка изображает! Сволота! Такие вот и позорят…
Кирьян Палыч пригладил усы.
— Ладно. Чего это я раскудахтался… Ты как со временем? В смысле дальнейших планов?
И бригадир стал горячо уговаривать Жорика остаться в Березняках, идти к нему в бригаду. Жилье не проблема, избы пустуют. Жорик от неожиданности поперхнулся дымом, замахал руками.