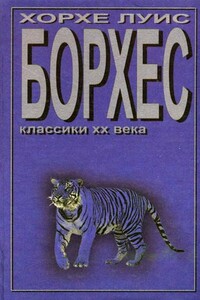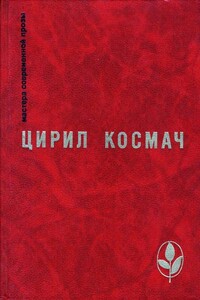— Шляхта идет в народ и становится народом, — стуча зубами, выдавил из себя присяжный остряк пан Генрик.
В самом трагическом положении он умеет находить смешную сторону.
— А почему бы нам не хватить контрабандной, если уж мы стали народом? — спросил, стуча зубами и не открывая глаз, наш уездный философ, исполнявший по совместительству и обязанности прихлебателя нашего уезда.
— У вас, матушка, галицийской водочки не найдется? — спросил пан Жан.
— У кого, у меня, ясновельможный пан?
Мужик или баба, если не может сразу решить, что ответить, обязательно спросит: «у кого, у меня?» — а тем временем обдумает ответ.
— Ну да, у вас.
— Э, мой не держит.
— Держит ли, не держит ли, а нам давайте.
Баба пошла в кладовку и вынесла зеленую бутылку. Джентльмены хватили по стаканчику.
— Encore une fois![3] — сказал философ.
— Encore une fois! — повторили все хором.
Бодрость влилась в нас.
Тем временем в хату вошел Пызик, снял шапку, улыбается. Скромно присаживается на скамью; вода с него течет ручьем.
— Ягна, — говорит он жене, — дай‑ка онучи.
— Ишь чего! Промок, так терпи.
— Уж и ленива, — обращаясь к нам, пробормотал фамильярно мужик, затем стащил сапоги, вылил из них воду, обмотал ноги мокрыми тряпками и, натянув сапоги, собрался уходить.
— Куда это вы, хозяин? — спросили мы.
— Да с кучером бричку вытащим.
— Где же остальные… хозяева?
— Разошлись, сукины дети, по домам. Окоченели негодяи.
Он засмеялся и ушел. Наступила тишина. Баба Пызика сушила уже третью сорочку, напустив на себя скромный вид, выжимала штаны и т. д. Джентльмены отогрелись и обрели даже снова способность шутить; только я был в отчаянии: приближался вечер, я не увижу ее.
В хате пахло картошкой, кожухами, сапогами, помоями, каким‑то салом — словом, разило сероводородом, или как там его называют, этот специфический мужицкий дух.
Я лениво смотрел на чахоточных святых кисти ченстоховского богомаза, на лавку с подлокотниками, стоявшую возле кровати, на чудовищную печь с трубой, на белобрысый чуб мальчишки, утиравшего пальцем нос и с безграничным изумлением глядевшего на фраки, которые висели на перекладине. Сон одолевал меня и наконец одолел. Я дремал довольно долго. Вдруг меня разбудили громкие возгласы джентльменов:
— Едем! — кричали они, надевая высохшее платье.
— Как… едем?
— Едем на именины.