Платон. Его гештальт - [40]
— Так что же? Если они должны быть мужественными, разве не следует ознакомить их со всем этим — с тем, что позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен подобный страх?
— Клянусь Зевсом, по-моему, нет.
— Что же? Кто считает Аид существующим, и притом ужасным, разве будет тот чужд страха смерти и разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою?
— Никогда.
— Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее хвалили: ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов.[218]
Таким образом, лишь для того, чтобы возвысить эту земную жизнь и вновь придать ей героический пафос, утраченный во времена разложения, вызванного поэзией и софистическими учениями, Сократ и превозносит в «Федоне» потусторонний мир в столь изысканных выражениях, улыбаясь беседует со склонившейся над ним смертью и, гиперболизируя героический пафос, отбрасывает жизнь как что-то достойное презрения. «Федон» исполняет то, чего «Государство» требует от поэтов, а именно — воспитания героев, и все его речи о потустороннем, преклонение перед смертью и поношение жизни на самом деле суть не что иное, как полнота жизни, любовь к героическому в посюстороннем и доблестное стремление к великому бытию. В хуле, адресованной телу, нужно, в духе самого мифа, услышать гимн героической жизни, которая сама себя высмеивает и разыгрывает, чтобы сделаться еще возвышеннее. Оставаться даже при смерти в ладу со своим демоном призывает каждое слово, вспыхивающее в сумраке предзакатного мифа, и с губ, мудрой улыбкой улыбающихся надвременному величию этого часа, слетают слова:
Но я и себя, вместе с лебедями, считаю рабом того же господина и служителем того же бога, я верю, что и меня мой владыка наделил даром пророчества не хуже, чем лебедей, и не сильнее, чем они, горюю, расставаясь с жизнью.[219]
Уже в «Теэтете» стремление к потустороннему вновь перекидывается в посюстороннее:
Но зло неистребимо, Феодор, ибо непременно всегда должно быть что-то противоположное добру. Среди богов зло не укоренилось, а смертную природу и этот мир посещает оно по необходимости. Потому-то и следует пытаться как можно скорее убежать отсюда туда. Бегство — это посильное уподобление богу, а уподобиться богу — значит стать справедливым и разумно благочестивым.[220]
Таким образом, всякое бегство ведет лишь к возвеличению земного бытия.
Подобно «Федру» и «Пиру», «Федон» можно только рассечь логикой, но не объять и не постичь в его мифическом и, следовательно, алогическом объеме; фигура Сократа, уже переосмысленная его учеником, встает в нем в своей прежней, приземленной сухости и, понуждаемый неожиданно возникающим образом, «Федон» должен приписать выступившему против софистов учителю, коему было строго наказано бороться с разрастающимися повсюду инстинктами, также и прежние, уже переработанные учеником выпады против телесности, утратившей всякую меру. Здесь во всем своем величии перед нами предстает подлинный, а не идеальный умирающий Сократ. Роде тоже считает, что живописуемое в «Федоне» бегство от жизни нехарактерно для Платона и является «пережитком более древнего теологического воззрения на взаимное отношение тела и души». Следовательно, такое бегство должно быть приписано только Сократу, который в отсутствие критики закоснел в старых представлениях о душе и ныне, в день смерти, проповедует их и героизирует на собственном примере. И пусть даже сам Платон в эпоху «Федона» отважился отрешить душу от противолежащей ей, но питающей ее почвы, все равно это было бы лишь выражением культового возвеличения, подобным тому, которое приводило к недоразумению и в отношении идей, будто их владычество и превосходство над вещами означает также отрыв от них и враждебность к ним. То, в чем со времен Аристотеля, не понимая созидательной алогичности культовых сил, не устают упрекать Платонов образ — это «особое» существование наряду и поверх действительности, — есть сама возвеличенная в культе действительность: героизация первоначального Сократа, а не стирание его действительных черт, идеи как сакральные образы творческих сил человека и душа, надзирающая за инстинктами в более строгом сопряжении с ними. И подобно тому как идея, коль скоро она всегда активна и, выходя за пределы своего культового круга, должна действовать как созидательная сила, снова становится гипотезой мыслителя и гипотезой демиурга, чтобы упорядочить вещи и сопрячь их друг с другом, так и достигаемое в культе увеличение ценности души требует повышенного внимания к порождающему всякое движение человеческому центру только для того, чтобы строже удерживать под контролем телесную периферию. Человеческое целое, в котором тело и душа не являются составными частями, пригнанными друг другу как пазы и планки, а представляют собой внутреннюю динамику и внешний материал единой неделимой действительности, может проникнуться новым духом, только если он исходит из центра, и только для того, чтобы охватить «целое», уже в «Теэ-тете» ведется поиск радиуса, направленного к центру души, «из которого потом происходит все злое и доброе для человека и его тела».

Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах.

Новая книга Николая Черкашина "Белая карта" посвящена двум выдающимся первопроходцам русской Арктики - адмиралам Борису Вилькицкому и Александру Колчаку. Две полярные экспедиции в начале XX века закрыли последние белые пятна на карте нашей планеты. Эпоха великих географических открытий была завершена в 1913 году, когда морякам экспедиционного судна "Таймыр" открылись берега неведомой земли... Об этом и других событиях в жанре географического детектива повествует шестая книга в "Морской коллекции" издательства "Совершенно секретно".

Все подробности своего детства, юности и отрочества Мэнсон без купюр описал в автобиографичной книге The Long Hard Road Out Of Hell (Долгий Трудный Путь Из Ада). Это шокирующее чтиво написано явно не для слабонервных. И если вы себя к таковым не относите, то можете узнать, как Брайан Уорнер, благодаря своей школе, возненавидел христианство, как посылал в литературный журнал свои жестокие рассказы, и как превратился в Мерилина Мэнсона – короля страха и ужаса.

Спросите любого человека: кто из наших современников был наделен даром ясновидения, мог общаться с умершими, безошибочно предсказывать будущее, кто является канонизированной святой, жившей в наше время? Практически все дадут единственный ответ – баба Ванга!О Вангелии Гуштеровой написано немало книг, многие политики и известные люди обращались к ней за советом и помощью. За свою долгую жизнь она приняла участие в судьбах более миллиона человек. В числе этих счастливчиков был и автор этой книги.Природу удивительного дара легендарной пророчицы пока не удалось раскрыть никому, хотя многие ученые до сих пор бьются над разгадкой тайны, которую она унесла с собой в могилу.В основу этой книги легли сведения, почерпнутые из большого количества устных и письменных источников.

Книга Радко Пытлика основана на изучении большого числа документов, писем, воспоминаний, полицейских донесений, архивных и литературных источников. Автору удалось не только свести воедино большой материал о жизни Гашека, собранный зачастую по крупицам, но и прояснить многие факты его биографии.Авторизованный перевод и примечания О.М. Малевича, научная редакция перевода и предисловие С.В.Никольского.
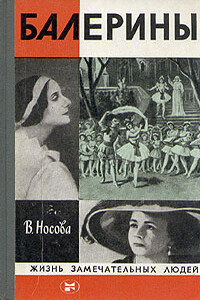
Книга В.Носовой — жизнеописание замечательных русских танцовщиц Анны Павловой и Екатерины Гельцер. Представительницы двух хореографических школ (петербургской и московской), они удачно дополняют друг друга. Анна Павлова и Екатерина Гельцер — это и две артистические и человеческие судьбы.