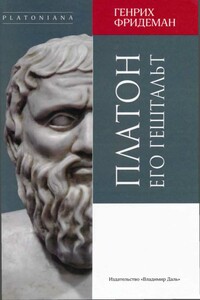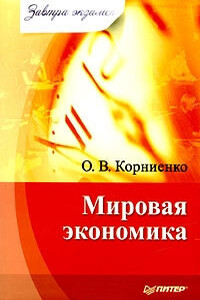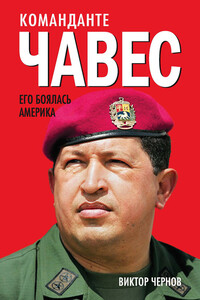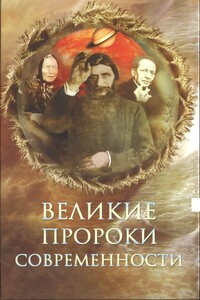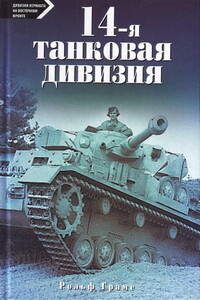Именно так вернее всего было бы определить жанр, в котором написана эта книга. Ее автор, Генрих Фридеман, прожил жизнь, короткую, как вспышка молнии: родился в 1888 году, после учебы в нескольких университетах Германии и Швейцарии защитил под руководством Пауля Хензена в Эрлангене диссертацию «Проблема формы в драме», подготовил для Пауля Наторпа в Марбурге габилитационную работу, которая, после знакомства Фридемана с георгеанскими идеями в “Jahrbuch fur die geistige Bewegung” («Ежегодник духовного движения») и при посредничестве Гундольфа — с самим Георге, превратилась в книгу о Платоне, посвященную «вождю и другу» Фридриху Гундольфу. Ему довелось увидеть свою книгу вышедшей из печати, а вскоре, в зимних боях 1915 года на восточном фронте, Генрих Фридеман был убит.
Собственно, эта книга стала единственным событием, случившимся в его жизни, событием, значения которого 26-летний философ полностью осознать не мог, хотя бы потому, что у него попросту не осталось на это времени. Известно, что он успел познакомиться с положительной оценкой своего «Платона» от Курта Хильдебрандта. Эта оценка вдохновила Фридемана, хотя едва ли он мог представить, что в будущем его сочинение станет своего рода каноном представления образа Платона в Круге Георге. Эта роль была предопределена фридемановскому «Платону» восторженным его восприятием самим Стефаном Георге, за которым последовали Вольтере, Гундольф, Хильдебрандт, которые, несмотря на отдельные критические замечания в адрес автора, в конце концов обеспечили произведению Фридемана статус главной георгеанской книги о Платоне.
Конечно, книга была принята не всеми даже из тех, кто находился в орбите влияния Георге (Эрнст Бертрам признавался, что «такое он читать не может»), а академическая наука фридемановского «Платона» попросту проигнорировала. Ничего удивительного в этом, конечно, нет, учитывая резко негативное отношение в университетских и академических кругах к деятельности Георге и его учеников в тех случаях, когда они выходили за пределы чистого искусства. Особенно это касается георгеанских вылазок в область самой, пожалуй, консервативной германской науки, науки о древностях, где они демонстративно нарушали исследовательские нормы и традиции, освященные именами классиков.[1] В ответ георгеанцы получили презрительное молчание относительно своих книг, которые для респектабельного университетско-академического сообщества как бы вовсе не существовали. Что касается более широкого круга образованной публики, то и для нее Георге всегда был странен, не став понятнее и с приходом к поэту известности. Как заметил Роберт Нортон, «даже провозглашенный пророком и спасителем страны, Стефан Георге оставался незнакомцем для любого за пределами его круга».[2] Большинством Георге воспринимался как исключительно трудный для восприятия поэт-символист, о котором ходили слухи, что он ведет странный, утонченный и причудливый образ жизни, исполняя роль мистагога в тайном сообществе своих адептов, извращенных молодых декадентов. Впрочем, подобного рода представления о Георге не являются редкостью и сегодня: Питер Уотсон, который в своей весьма популярной книге уделил Стефану Георге некоторое количество своего внимания, заявил, что «отчасти Георге не признали помешанным по той причине, что он оказывал глубокое воздействие на окружающих».[3]
Естественно, к книге, вышедшей из Круга Георге, на что недвусмысленно указывает издание ее под логотипом серии «Листков искусства» (“Blatter fur die Kunst”), во время ее выхода многие отнеслись настороженно. Тот факт, что вскоре книга Фридемана оказалась полностью распродана, ни о чем не говорит — ее тираж составлял всего три сотни экземпляров, из-за чего спустя 17 лет книгу пришлось переиздать.[4]
Тот, кто сегодня берется за чтение фридемановского «Платона», с первых страниц убеждается в том, что прежние опасения были вполне обоснованными. Более того, на фоне стиля, принятого сегодня в научном платоноведении, книга Фридемана выглядит еще большей странностью, чем в начале прошлого века. «Платон: его гештальт» написана в манере, способной привести в отчаяние даже самого прилежного читателя ученых трактатов: возвышенная пафосная речь, сверх меры украшенная эпитетами, аллегориями и намеками, изобилие парадоксальных суждений, демонстративное пренебрежение точностью и определенностью терминологии, частое использование странных образов и сравнений. Фридеман в своей эзотерической и герметической книге открыто пренебрегает аргументированностью и внятностью, он совершенно не стремится сделать ее доступной и понятной — иногда кажется, что автор просто играет в языковые игры, правила которых известны ему одному, да и книгу эту он, похоже, написал для единственного читателя — себя самого.[5] Этот причудливый сплав пророческого ясновидения и туманного языка с философией наводит на мысль, что, в отличие от Платона, Фридеман, обратившись к философии, не сжег свои поэтические сочинения и, как это подобает настоящему поэту, притязает на создание