Пепел - [4]
На расстоянии нескольких сот шагов от него над убитым вожаком стоял огромный мужичище в короткой, бурой сермяге и тщательно осматривал свое охотничье ружьецо.
– Убили, Каспер? – прошептал Рафал, задыхаясь от бега.
– Да, это он как-то наскочил на меня… И самому невдомек, как оно могло статься. Я думал, вы, паныч, козлика уложите.
– Да ведь не вышли они на меня… – проговорил красный как рак юноша.
– Ах, черт возьми! Смотрите-ка… И шли ведь на то самое место. Ан, не вышли! А ведь под тем буком не одного такого укокошить случалось. Иной раз они там подолгу бродят, ищут вереск, либо свежие иглы елей пощипывают. Стороной прошли, сукины дети… – с нескрываемой насмешкой говорил старый плут, в упор глядя на юношу своими поблекшими глазами.
В это мгновение внизу снова раздался нетерпеливый зов:
– Эй-эй!
– О, это пан зовет, – тревожно пробормотал Каспер. – Пойдемте.
– А что вы будете делать с козлом?
– Придется этакую зверину на спину взвалить!..
Подстреленный в самое сердце козел лежал мертвый. Снег вокруг него подтаял, и с ветвей ели капала вода. Бессильно откинутая прекрасная голова зверя глядела на Рафала мертвыми глазами. Юноша в порыве злобы схватился за шпагу, которая была при нем, и готов был нанести мертвому вожаку еще один удар, но старый доезжачий уже приготовился взвалить зверя на спину. Он дотащил козла до ближайших вывороченных бурей деревьев, приподнял и, захватив каждой рукой по две ноги, с изумительной легкостью закинул себе на спину убитого зверя. Рафал стал спускаться с доезжачим вниз. Ноги их на склоне горы то и дело застревали между обломками каменных глыб, уходили в покрытую мхом осыпь. Трухлявые пни, мягкие, как тесто, иззелена-бурые от плесени, рассыпались у них под ногами. Внизу в молодняке скулили собаки, и Рафал с доезжачим шли на их голос. Наконец юноша, который крупными шагами спускался впереди, увидел дядю. Худой, невысокого роста шляхтич сидел на корточках над серной и свежевал ее. Испачканными кровью руками он вытаскивал еще дымящиеся внутренности и бросал их собакам. Когда Рафал с доезжачим подошли к нему, пан Нардзевский сердито посмотрел на Каспера, окинул взглядом козла и хрипловатым голосом проговорил:
– Это ты, пес, себе вожака приберег…
– Да ведь…
– Ты что, не знал, что я тут стою? Как же! Где тебе о таких делах помнить! Это мне-то, хам, коз после тебя стрелять!
– Да ведь шли они как-то стороной…
– Это от бука шли стороной!.. Лжешь!
– Я еще подумал, как бы на них, чертей, ветер не потянул. Ветер как раз от Кленовой дул. Смекнул это я…
– Я тебе смекну, так ты у меня вверх тормашками полетишь! Клади козла. А что же ты, Рафця, ничего не несешь с Лысицы? – ласково обратился он к племяннику.
– Не вышли они на меня. Слышу только, ломят за деревьями так, что земля дрожит…
– Гм… Мимо большого бука не прошли… Слыхано ли дело?… Свежуй… – буркнул он доезжачему.
Пока тот открывал небольшой складной нож, висевший у него на ремешке у пояса, Нардзевский сердите спросил:
– Откуда стрелял?
– Да из-под той пихты, что с зарубкой. Я под нею стоял. Прямо под дуло выскочил вожак, точно пастух его ко мне пригнал. Там еще срубленная и обтесанная пихта лежит, так он остановился, будто перескочить ее хотел.
– А откуда там взялась обтесанная пихта?
– Пихта-то? Да ее, вельможный пан, срубил тот мужик из Поромбок, что с немцем судился.
– Ничего я не знаю, какой такой немец, кто с кем судился?
– Да об этом во всех деревнях народ толкует.
– Ну, коли весь народ, так и ты потолкуй.
– Ладно. Вот оно как было, дозвольте с самого начала начать… Приехал мужик из Поромбок, по прозвищу Ямрозек, с парой добрых лошадок да с порожней телегой – колеса одни да роспуски; поднялся это он на самую верхушку Лысицы за сухостойной пихтой, ему нужна хорошая пихта, смолистая, ветром высушенная. Он делает коробки для соли, так ему сухое дерево нужно. Ну, ладно. Срубил это он себе пихту, что твоя колокольня на Святом Кресте, обрубил как положено все ветки. Такое бревнышко получилось, что хоть на мельничный вал. Взял мой Ямрозек, развел роспуски так, что задние колеса только-только за них держатся, приладил шворень, смотрит, из кустов лесник выходит. Платье на нем зеленое, на голове картузик с пуговкой, в руке ружье. Поглядел это он на Ямрозека, осмотрел бревно, желтым аршином его смерил и стал что-то писать на бумаге. Как кончил, тогда только заговорил с мужиком, будто и по-нашему, только уж очень что-то затейливо. Снял мужик шапку, почесал в затылке. «Плохо дело!» – думает. Стал немчура что-то лопотать будто по-польски, а потом как гаркнет:
– Марш в Слупье!
Ну, ладно. Взял мужик шапку, взнуздал лошадей и поехал под гору, по той самой дороге, что идет по берегу речки к Поромбкам. Немец около телеги идет, сопит да покуривает трубку. Вышли они из лесу, на росчисть, спускаются по горе друг за дружкой. Снял Ямрозек шапку, поклонился, да и говорит:
– Отпусти, вельможный пан фестер.[1]
А немец свое:
– Марш в Слупье!
Едут они дальше, плетутся по межам, а то и прямиком через поле. Проехали это немного, снял мужик шапку, да и говорит:
– А вы бы, вельможный пан фестер, хоть на роспуски сели, а то мы так до утра в Слупье не доберемся.
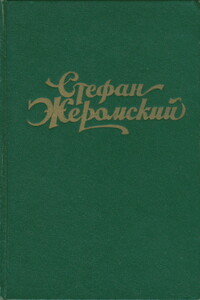
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1889, № 49, под названием «Из дневника. 1. Собачий долг» с указанием в конце: «Продолжение следует». По первоначальному замыслу этим рассказом должен был открываться задуманный Жеромским цикл «Из дневника» (см. примечание к рассказу «Забвение»).«Меня взяли в цензуре на заметку как автора «неблагонадежного»… «Собачий долг» искромсали так, что буквально ничего не осталось», — записывает Жеромский в дневнике 23. I. 1890 г. В частности, цензура не пропустила оправдывающий название конец рассказа.Легшее в основу рассказа действительное происшествие описано Жеромским в дневнике 28 января 1889 г.
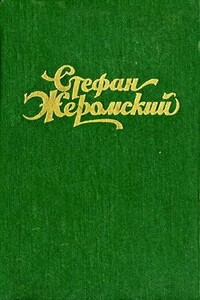
Повесть Жеромского носит автобиографический характер. В основу ее легли переживания юношеских лет писателя. Действие повести относится к 70 – 80-м годам XIX столетия, когда в Королевстве Польском после подавления национально-освободительного восстания 1863 года политика русификации принимает особо острые формы. В польских школах вводится преподавание на русском языке, польский язык остается в школьной программе как необязательный. Школа становится одним из центров русификации польской молодежи.
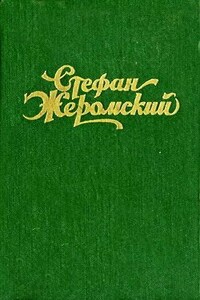
Роман «Верная река» (1912) – о восстании 1863 года – сочетает достоверность исторических фактов и романтическую коллизию любви бедной шляхтянки Саломеи Брыницкой к раненому повстанцу, князю Юзефу.
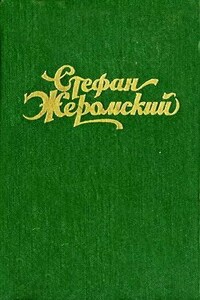
Роман «Бездомные» в свое время принес писателю большую известность и был высоко оценен критикой. В нем впервые Жеромский исследует жизнь промышленных рабочих (предварительно писатель побывал на шахтах в Домбровском бассейне и металлургических заводах). Бунтарский пафос, глубоко реалистические мотивировки соседствуют в романе с изображением страдания как извечного закона бытия и таинственного предначертания.Герой его врач Томаш Юдым считает, что ассоциация врачей должна потребовать от государства и промышленников коренной реформы в системе охраны труда и народного здравоохранения.
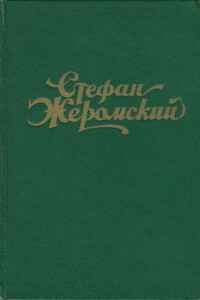
Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения», 1898 г. Журнальная публикация неизвестна.На русском языке впервые напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы», 1906, № 11, под названием «Наказание», перевод А. И. Яцимирского.
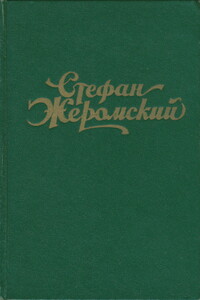
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, №№ 24–26. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).Студенческий быт изображен в рассказе по воспоминаниям писателя. О нужде Обарецкого, когда тот был еще «бедным студентом четвертого курса», Жеромский пишет с тем же легким юмором, с которым когда‑то записывал в дневнике о себе: «Иду я по Трэмбацкой улице, стараясь так искусно ставить ноги, чтобы не все хотя бы видели, что подошвы моих ботинок перешли в область иллюзии» (5. XI. 1887 г.). Или: «Голодный, ослабевший, в одолженном пальтишке, тесном, как смирительная рубашка, я иду по Краковскому предместью…» (11.
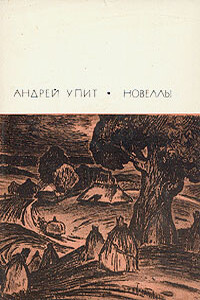
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
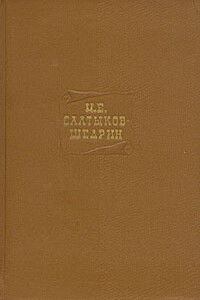
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.
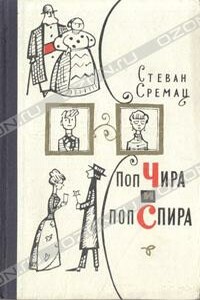
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
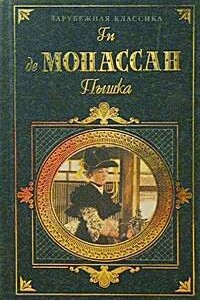
`Я вошел в литературу, как метеор`, – шутливо говорил Мопассан. Действительно, он стал знаменитостью на другой день после опубликования `Пышки` – подлинного шедевра малого литературного жанра. Тема любви – во всем ее многообразии – стала основной в творчестве Мопассана. .
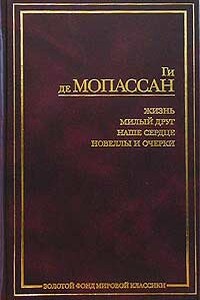
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
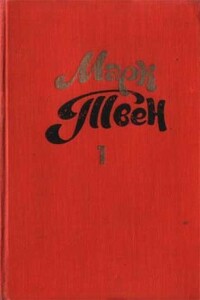
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.