Отранто - [2]
Это случилось в полдень. Сейчас тоже полдень. Августовский полдень. Я пытаюсь найти призрак, который перенес бы меня туда, где я никогда не бывала, и дал бы наконец долгожданное облегчение. Ведь именно в этот час солнце останавливает свой бег, чтобы полюбоваться плясками сатиров и их подружек. Полдень — время неподвижное. Я чувствую себя в плену у светового дождя, у лучей, что падают отвесно, словно сплющивая все вокруг. Плечи мои горят, как поцарапанные. Мы одни на маленькой августовской площади, я и кафедральный собор. Он словно приглашает меня войти и укрыться от раскаленных лучей, посланных богом света. И мне хочется сказать: люди, не изумляйтесь, ведь и там, где все на свету, где все кажется ясным, может оказаться тайна. И я ищу полуденного демона там, где много раз его видела. В городе призраков привидения являются не по ночам, а в полдень.
Я бы, пожалуй, все это рассказала, если бы мне посмотрели в глаза. Хоть разочек, хоть на мгновение блеснули бы чьи-то зрачки, утомленные этим светом, не дающим взгляду ни на чем остановиться. Если бы только заглянули в мои светлые и не по-здешнему прозрачные глаза, что кажутся пришельцами из других краев, как капители крипты. Но никто мне в глаза не посмотрел, хотя кто знает, скольким людям хотелось бы понять, что же видели мои глаза, когда наступал полдень, и что они умели прочесть в кусочках мозаики падре Панталеоне.
За эти годы кожа моя потемнела и больше не краснеет, не обгорает, как раньше. Я никогда не думала, что она так быстро привыкнет к солнцу, и это настолько изменит мое лицо и тело. Солнечные лучи здесь смягчает ветер, завывающий на разные голоса в каменных коридорах города, как обезумевшая толпа, которая мчится, не разбирая дороги. Зимой Отранто пустеет, все в нем ширится и теряет свои истинные размеры. Я коротала зимы, мало с кем перекидываясь словом, вглядываясь в лица и стараясь вспомнить тревожившие меня сны. По ночам мне казалось, что сны обретают ясный смысл, но он терялся, как только солнце касалось крыш. Я бы и об этом рассказала, если бы меня спросили. Рассказала бы, сдержав волнение, чтобы никого не напугать, спокойно, медленно, как поют греческую погребальную песнь, нению: Vasilicò pliatìfidda, ma ta saranta fidda. Saranta s'agapìsane 'vo irta s'epira. Обазилик широколистный, о базилик сороколистный, сорок любили тебя, я пришла и взяла тебя…
Я бы вернулась в то далекое время, и снова ожили бы сторожевые башни, стоящие теперь вдоль берега, как тоскливое свидетельство о былом ужасе. Они славно устроены для пристальных темных глаз, высматривавших, не появятся ли вражеские корабли и не сверкнет ли солнце на кривых клинках. И я бы сказала: не все погибли, кому-то удалось убежать и рассказать обо всем, ведь в мозаике есть надпись: Rex Arturus, Король Артур. Но пока что я в своем времени и медленно бреду, как брела когда-то Градива[1] по улицам Помпеи, населенным призраками. Я прислоняюсь к стенам, пытаясь своим телом, как щитом, утихомирить ветер. Пока что я сама себе свидетель, и больше не знаю, зачем это нужно, и есть ли справедливость в том, чтобы быть единственным свидетелем места и времени, у которого нет времени.
От постоянной работы с кусочками мозаики у меня уставали глаза, и я подолгу глядела на море, опасаясь, что их цвет может поблекнуть. Мне казалось, что, если выбрать самую синюю точку на горизонте, то мои радужки снова насытятся живой синевой. Я вглядывалась в эту синеву до рези в глазах, до онемения лица, и, в конце концов, мне начало казаться, что мои радужки повторяют рисунок лучей на розетке кафедрального собора.
Мне хотелось сказать: что вы об этом знаете, люди в белых халатах, вы и имена-то свои забыли, у вас есть только буковки, вышитые на нагрудных кармашках. Что вы в этом смыслите, если даже не спрашиваете? Ведь я бы вам все рассказала. Но только на рассвете, в ожидании холодноватого утреннего света, когда небо еще может противиться силе полудня. Вы улыбаетесь и треплете меня по щеке. Вы даже не переглядываетесь многозначительно. В ваших учебниках нет ни слова ни о демонах, ни об ослепительном свете, ваши книги не разумеют того, кто начинает вдруг говорить на незнакомом языке, сам понимая, что тут же его забудет. В тот день я повторяла без конца: Ilieme, na mi pai, mino na di posson en' oria tuti pu agapò. Я даже не догадывалась, что это может значить. Вы все спрашивали меня, где я научилась по-гречески. И я отвечала: не знаю. Тогда кто-то прошептал: она бредит. Плевала я на ваши доводы и вашу медицину! И снова погружаюсь в забытье и, теряя сознание, бормочу молитву, языка которой не разумею, но знаю ее наизусть, как будто мне случалось уже ее повторять.
Ilieme, nami pai, mino nadi posson en 'aria tuti pu agapò. Вы называете это бредом. Всего лишь потеря сознания, озноб, бессвязная речь. Я гляжу на всех вас и ничего вам не расскажу. Вы пытаетесь понять смысл моих слов, а я вижу вас где-то далеко-далеко, и вы уже сделали свой выбор: когда все кончится, вы уйдете в небытие.
Когда я уезжала в Отранто, мне казалось, что я знаю, что такое светотень. Еще в детстве отец учил меня рисовать. Он зарабатывал на жизнь, делая копии картин из Рийксмузея в Амстердаме. Это были копии Франца Хальса, Иоганнеса Вермеера и, прежде всего, Рембрандта. В маленькой комнате для гостей в нашем доме висела его самая удачная копия «Ночного Дозора». Туристы утверждали, что его копии невозможно отличить от оригинала. Он улыбался и показывал мне, как можно отличить копию: где кисть пошла не в том направлении, где чуть изменен оттенок цвета. Однажды он принес копию картины не из Рийксмузея, а из Национальной Галереи в Лондоне. Густая тень наполняла высокую комнату; у стола угадывался силуэт сидящего за книгой человека. Я часами разглядывала эту картину, потрясенная не затененной комнатой, а светом, создававшим необычный контраст. Много лет спустя я узнала, что картину написал один из учеников Рембрандта. А тогда я умела видеть только то, что видела: необыкновенно контрастный свет, высокое окно и читающего человека в темной глубине комнаты. До этого момента я жила в мире легких, размытых светотеней. На севере тени образуются за счет слабого рассеивания света, который не может падать отовсюду, и в результате получаются светлые серые пятна без силы, без яркости. Северный свет — это посредник, создающий компромисс чувства и реальности. А картина ученика Рембрандта ближе к чувству без компромисса. В первые же дни после приезда в Отранто, проходя возле Альфонсинских ворот, я заметила, что граница светотени буквально разрезает пространство: по одну сторону ослепительный свет, по другую — сразу, без перехода, будто пространство стало свойством времени, — тьма, тьма и еще раз тьма. Меня так и подмывало встать на линию раздела: интересно, что при этом почувствуешь?

Книга современного итальянского писателя Роберто Котронео (род. в 1961 г.) «Presto con fuoco» вышла в свет в 1995 г. и по праву была признана в Италии бестселлером года. За занимательным сюжетом с почти детективными ситуациями, за интересными и выразительными характеристиками действующих лиц, среди которых Фридерик Шопен, Жорж Санд, Эжен Делакруа, Артур Рубинштейн, Глен Гульд, встает тема непростых взаимоотношений художника с миром и великого одиночества гения.
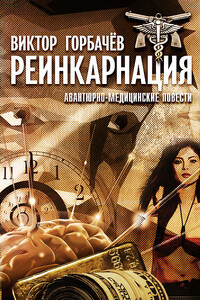
«Надо жить дольше. И чаще,» – сказал один мудрый человек.Трудно спорить. Вопрос в другом: как?!И создатель вроде бы от души озаботился: ресурсы органов и систем, говорят, на века пользования замыслены…Чего же тогда чахнем скоропостижно?!«Здоровое, светлое будущее не за горами», – жизнеутверждает официальная медицина.«Не добраться нам с вами до тех гор, на полпути поляжем», – остужают нетрадиционщики. «Стратегия у вас, – говорят, – не та».Извечный спор, потому как на кону власть, шальные деньги, карьеры, амбиции…И мы, хило-подопытные, сбоку.По сему видать, неофициальная медицина, как супротивница, по определению несёт в себе остроту сюжета.Сексотерапия, нейро-лингвистическое программирование (гипноз), осознанный сон, регенерация стволовыми клетками и т.

Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.