Орфей - [5]
1969
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
КИЕВ
1935
НА СМЕРТЬ Н.ГРОНСКОГО
1936
«Ты шел дерзновенной эмблемой отваги…»
1936
«Прекрасное слово – гордость!..»
1937
ОЛЕРОН
1937
ПРАГА
1937
«Люблю зиму…»
О, если ты, звезда – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.
О. Мандельштам
1938
РОЖДЕСТВО
1940
ОДИНОЧЕСТВО
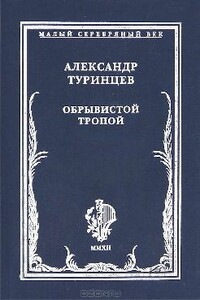
Александр Александрович Туринцев (1896–1984), русский эмигрант первой волны, участник легендарного «Скита поэтов» в Праге, в 1927 г. оборвал все связи с литературным миром, посвятив оставшиеся годы служению Богу. Небольшое поэтическое наследие Туринцева впервые выходит отдельным изданием. Ряд стихотворений и поэма «Моя фильма» печатаются впервые.
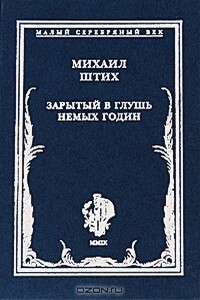
Михаил Штих (1898-1980) – профессиональный журналист, младший брат Александра Штиха, близкого друга Бориса Пастернака. В юности готовился к карьере скрипача, однако жизнь и превратности Гражданской войны распорядились иначе. С детства страстно любил поэзию, чему в большой степени способствовало окружение и интересы старшего брата. Период собственного поэтического творчества М.Штиха краток: он начал сочинять в 18 лет и закончил в 24. Его стихи носят характер исповедальной лирики и никогда не предназначались для публикации.
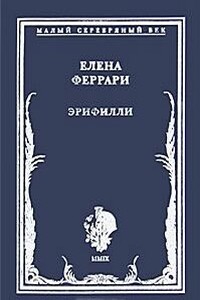
Елена Феррари (O. Ф. Голубовская, 1889-1938), выступившая в 1923 году с воспроизводимым здесь поэтическим сборником «Эрифилли», была заметной фигурой «русского Берлина» в период его бурного расцвета. Ее литературные дебюты вызвали горячий интерес М. Горького и В. Шкловского. Участие в собраниях Дома Искусств сделало Елену Феррари одной из самых активных фигур русской литературной и художественной жизни в Берлине накануне ее неожиданного возвращения в советскую Россию в 1923 г. Послесловие Л. С. Флейшмана «Поэтесса-террористка», раскрывая историко-литературное значение поэтической деятельности Елены Феррари, бросает свет также на «теневые», малоизвестные обстоятельства ее загадочной биографии.