Очерки поэтики и риторики архитектуры - [237]
В подтверждение этого вывода приведу процитированный выше на языке оригинала фрагмент из «Ренессанса и барокко» Вёльфлина в переводе Евгения Лундберга, но с оговоркой: везде, где переводчик, аккуратно следуя автору, использовал слово «пространство» и его производные, я вставил смысловые эквиваленты. Мои замены выделены жирным шрифтом: «Своими лучшими созданиями – внутренним обликом церквей – он [барокко. – А. С.] вносит в искусство новое, основанное на чувстве бесконечности, понимание интерьера». «Замысел покоится теперь не на определенных кубических пропорциях, не на приятных соотношениях высоты, ширины и глубины определенного ограниченного объема». «Интерьер, который Ренессанс освещал равномерно и которого он не мог себе иначе представить, чем тектонически замкнутым, растворяется в безграничности». «Над головою же, где зал замыкался спокойным, плоским потолком, теперь высится чудовищный свод». «Основная черта новейшего искусства – упоение бесформенным объемом и светом»1024. Читатель может убедиться, что, заменив «пространство» «внутренним обликом», «интерьером», «объемом», «залом», я оживил текст, не поступившись смыслом.
Поддержу критическую аргументацию Скрутона своими соображениями. Архитектурное «пространство» – фикция, возникшая в результате переноса на архитектуру понятия «пространство», позаимствованного из математики и физики так же некорректно, как понятие «время», включенное Гидионом в апологию «современного движения» ради придания ему псевдонаучной внушительности посредством туманных отсылок к теории относительности. Перенос этот некорректен, потому что математические и физические пространства необитаемы, без-субъектны, в отличие от архитектурных объектов, сама архитектурность которых является, как показал Ингарден, не реальным, а интенциональным предметом, который существует только благодаря нам, людям, учреждающим такого рода предметы. Не останься на земле ни души – мировая архитектура превратилась бы во множество материальных объектов непонятного назначения. Возможно, обсуждать их в физико-математических терминах было бы и корректно, но не ясно, кто бы смог этим заняться, если только не инопланетяне.
Что бы ни называли в архитектуре «пространством», это не то, что мы видим глазами непосредственно. Ибо глазами мы, как и наши предшественники (в их числе зодчие минувших времен), видим не пространство, а стены, которые, заслоняя горизонт на том или ином расстоянии от нас, определяют периметр нашего поля зрения. В интерьере преграды – опять-таки стены, дополненные полом и потолком.
Пространство – категория не чувственная, а умозрительная. От чувственных впечатлений, создаваемых стенами, ограждающими пустоты, мы, как показали гештальт-психологи, невольно восходим к правильным геометрическим фигурам и стереометрическим телам: квадратам и кубам, треугольникам и пирамидам, кругам и сферам, конусам и спиралям. Но абстрагирующее восхождение мысли от стен, к которым можно прикоснуться, которые могут разрушаться и восстанавливаться, к сверхчувственным пространственным фигурам и телам отнюдь не приближает нас к архитектурной «сущности» объектов, а, наоборот, уводит от архитектуры в необитаемое физико-математическое пространство. Поскольку же в эзотерических традициях, отчасти влияющих и на непритязательную умственную жизнь, эти фигуры и тела окружены мистическим глубокомыслием, ограничиваемые стенами пустоты приобретают символическое значение, репрезентируя высшие ценности: Порядок, Гармонию, Вечность, Совершенство, Развитие и так далее. Примером того, как предвзятая пространственная форма, возникшая из эзотерических прозрений, воплотилась в самое нелепое из существующих музейных зданий, является музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Уместность здания, которое производит, в меру нашей осведомленности, символическую репрезентацию отвлеченных ценностей, столь же мало гарантирована, как и уместность сложных гиперскульптур. Не надо думать, что архитектурное проектирование – это движение от внеархитектурной пространственной формы к архитектурному решению, в котором пространство якобы сохраняет свой приоритет. Если Малый Трианон уместен – а это, безусловно, так, – то не потому, что в нем заложена идея квадрата, а благодаря изысканно аристократическому характеру его фасадов. Поскольку чисто пространственная форма по происхождению не архитектурна, а умозрительна, то при попытке воплощения в жизнь ей неоткуда позаимствовать архитектурность, если архитектор не нарушит, не сломает ее сверхчувственное совершенство с помощью разноприродных материальных факторов. Об этом хорошо сказал Луис Кан: «Я беру квадрат, чтобы начать мои размышления, потому что квадрат – это отутствие выбора, действительно. В целях развития я ищу силы, которые бы опровергли квадрат»1025. Как видим, у Кана архитектурный поиск был не попыткой насильственного внедрения априорной пространственной формы в жизнь, а, напротив, ее преодолением.
Другой тип пространственного мышления стремится подчинить архитектурное творчество не умозрительным фигурам и телам, а количественным факторам. Таким представляется мне конструктивистское проектирование, исходящее из расчетов динамики и «экономных», минималистических траекторий человеческих движений, конфигурацией которых определяется форма «оболочки». Это не архитектурный, а инженерный подход, в рамках которого отдельный человек, группы и потоки людей рассматриваются как неодушевленные, чисто физические тела и массы, как элементарные частицы социума. Поскольку этот подход не архитектурен, неудивительно, что в его рамках приоритет отдается пространству, которое в данном случае опять-таки не может быть иным по происхождению, как физико-математическим. В результате у проектировщика могут получаться непредсказуемые гиперскульптурные пространственные конфигурации. Этот подход, в принципе, предвосхищает метамодернистское параметрическое проектирование. Разница лишь в том, что в основу сегодняшних параметрических решений берутся динамические факторы, совсем уже далекие от человеческого фактора, пусть даже обезличенного, как у конструктивистов.
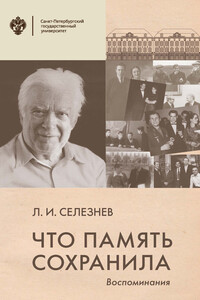
В книге воспоминаний заслуженного деятеля науки РФ, почетного профессора СПбГУ Л. И. Селезнева рассказывается о его довоенном и блокадном детстве, первой любви, дипломатической работе и службе в университете. За кратким повествованием, в котором отражены наиболее яркие страницы личной жизни, ощутимо дыхание целой страны, ее забот при Сталине, Хрущеве, Брежневе… Книга адресована широкому кругу читателей.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.
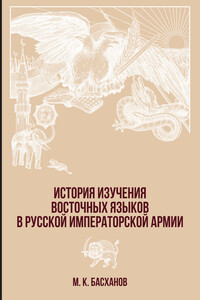
Монография впервые в отечественной и зарубежной историографии представляет в системном и обобщенном виде историю изучения восточных языков в русской императорской армии. В работе на основе широкого круга архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы эволюции системы военно-востоковедного образования в России, реконструируется история военно-учебных заведений лингвистического профиля, их учебная и научная деятельность. Значительное место в работе отводится деятельности выпускников военно-востоковедных учебных заведений, их вкладу в развитие в России общего и военного востоковедения.
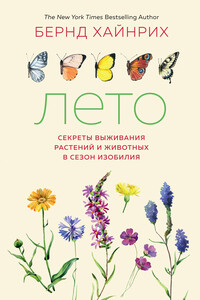
Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.
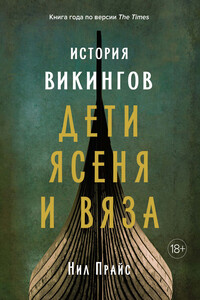
Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.
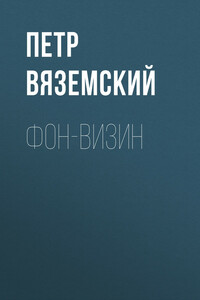
«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частию благосклонные, частию нет…».
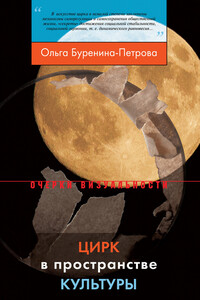
В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).
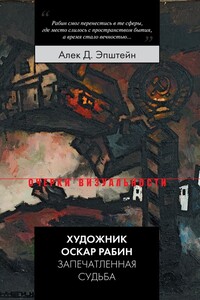
Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.
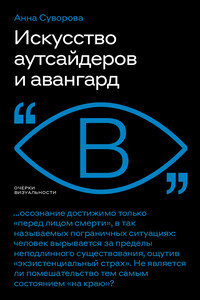
«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.
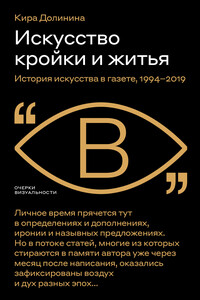
Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы.