Не сторож брату своему - [7]
И точно, как Дося думал, так оно и вышло. Сидят они с Серафимом, чай пьют. Дося капустку с редькой приготовил, угощает. Тут в дверь стучат. Открыл Дося — никого. А потом вдруг сразу, будто из воздуха, гость на пороге. Одет как-то странно — фуражка, китель довоенного образца со споротыми погонами.
— Вы кто? — спрашивает Дося.
— А я тот, — отвечает гость, — кто отца твоего уничтожил в тридцать седьмом. Ты небось отомстить за него хочешь? На вот, держи…
И протягивает Досе наган. Только Дося руку его отстраняет.
— Господь тебе судья…
— Да ты знаешь, сколько на мне крови? — кипятится гость. — Ты думаешь, только твой отец? Да за мной сотни таких, как он! Враг я твой! Ты должен убить меня!
А Дося спокойно так говорит:
— Для меня все одинаковы. Виновные, невиновные. Все одно…
Гость даже опешил.
— Как это одинаковы? Ты что же, не отличаешь правого от неправого? Красного от белого? Это как же понимать?
— А как солнышко светит? — отвечает Дося. — Сияет себе на всех без разбора, на праведных и неправедных. Я всех равно жалею. Без злобы и ненависти.
— Да ты погляди, что кругом творится! — не унимался гость. — Люди хуже волков! Глотки рвут друг другу!
— А я сам-то каков? — спрашивает Дося. — Я, может, еще хуже. Я, может, самый худший из всех…
— Что ж ты, ограбил кого или убил?
— А кто его знает, что бы я сделал, живи я среди людей. Я потому и бегу от них. Когда с людьми живешь, непременно в грех втянешься. Не хочешь, а втянешься. А здесь я никого не обижаю, не ругаюсь, не злюсь. Здесь я чист и всем доволен. Только в уединении и можно любить людей.
— Нет, дружок, — возражает гость. — В миру подвиг выше. Если не понесешь подвига среди людей, не сможешь и в уединении.
— Да какой там подвиг? — машет рукой Дося. — Никакого подвига и не надо. Жить только просто и никому зла не делать! Вот я живу себе, и мне хорошо. Долгов у меня нет, никого я не обманул. Нет у меня за душой дел беззаконных. Потому и сон у меня сладкий.
Гость согнулся как-то крючком, вроде бы даже меньше ростом стал.
— Ишь, как устроился, — хихикает. — Люди гнили в окопах, в лагерях, а он здесь капустку с редькой трескает. Брат твой Никифор в лагере… А ты здесь… Вот и суди теперь, чей путь выше? Брата или твой! Один в страданиях и муках, другой в тишине и покое!
Дося сразу как-то загрустил, сгорбился.
— Брат-то он мой, да ум у него свой… У каждого своя дорога.
— Может, он уже погиб там, в лагере. Может, его уже в живых нет. Каин, Каин, где брат твой Авель? Почему ты не с ним? Вместе нести муки и скорби!
Дося долго молчал, потом говорит:
— Скорби — это не кара. Это испытание. Страдания — не зло для человека. Зло — это грех. Нам всем надо спасаться для будущего царства.
— Что еще за будущее царство? — ехидно так спрашивает гость.
— Царство добра и справедливости. Где нет войн и лагерей. Нет беззакония и насилия. Блаженная земля… Свет невечерний…
Гость даже в ладоши захлопал.
— Поглядите на него! В мире войны, кровь, революции! А у него — Свет невечерний! Все бури над ним проходят! Ни в чем его нет!
— Я же говорю: надо готовить себя к будущему царству! — упрямо твердит Дося. — Само собой ничего не придет. Избавиться от тьмы в самом себе! Очистить свое сердце! Никто тебя не спасет. Только ты сам. Лечи свою душу от ненависти! Вот тогда оно и наступит, будущее царство. А силой, оружием только тьму сгущать.
Гость ничего не ответил, сам все стоит, не уходит. Дося с Серафимом чай пьют, между собой разговаривают.
— Вот и я теперь не знаю, — говорит Серафим, — чей же путь выше? Вот поди угадай…
Тут он оглянулся, а гостя уж нет. Когда он исчез, никто не заметил, даже дверь не стукнула.
— Это еще ничего, — говорит Дося. — Тут ко мне император приходил.
— Какой император?
— А шут его знает. Лицо вроде знакомое, а какой — не знаю. Должно быть, последний русский царь, Николай Второй. А у меня, как назло, хоть шаром покати. Одни сухари да вода. Ну, угостил я его сухарями, а он говорит: «Счастливые вы люди, отшельники! Свободны от мирских забот. Только о собственном спасении и печетесь. Я вот царствую, а никогда не кушал с таким удовольствием, как сейчас. У меня ведь одни заботы. Революционеры, бомбы… Голова идет кругом…»
Долго еще Серафим с Досей беседовали, поздно уже, ночь. Оставил Дося Серафима ночевать, отдал ему свою лежанку, сам на полу устроился. Утром их разбудил какой-то белобрысый мальчик из деревни, бутылку маслица принес.
— Мамка велела передать. Отнеси, говорит, пустынному человеку. Может, говорит, он твою грыжу вылечит…
— Да какой я лекарь? — улыбается Дося. — Не лечу я никого. Приходят ко мне, думают — знахарь. А я всех обратно отсылаю. Говорю: я здесь не для других, а для себя. Я сам весь в язвах грехов и больше всех нуждаюсь в лечении.
Серафим поднялся и стал собираться. Как Дося его ни уговаривал остаться, Серафим ни в какую, даже чай пить не стал.
— Пора мне, — говорит. — Срок мой вышел. Вот мальчик меня и проводит, дорогу покажет.
Ушли они с белобрысым. А через полчаса, наверное, белобрысый бежит обратно. Запыхался, дух перевести не может. Сам трясется весь, глаза бегают.
— Что было! Что было!
Отдышался и рассказывает:

«По выходным Вера с Викентием ездили на дачу, Тася всегда с ними. Возвращалась с цветами, свежая, веселая, фотографии с собой привозит — Викентий их там фотографировал. На снимках все радостные — Вера, Тася, сам Викентий, все улыбаются. Дорик разглядывал фотографии, только губы поджимал. — Плохо все это кончится, я вам говорю…».

«— Как же ты попала сюда? — спрашивает ее Шишигин. А жена хохочет, остановиться не может: — На то и святки… Самая бесовская потеха… Разве ты не знаешь, что под Рождество Господь всех бесов и чертей выпускает… Это Он на радостях, что у него Сын родился…».

«После выпуска дали Егору приход в самом заброшенном захолустье, где-то под Ефремовом, в глухом поселке. Протоиерей, ректор семинарии, когда провожал его, сказал: — Слабый ты только очень… Как ты там будешь? Дьявол-то силен!».

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».
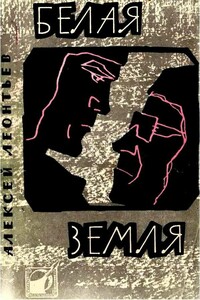
Алексей Николаевич Леонтьев родился в 1927 году в Москве. В годы войны работал в совхозе, учился в авиационном техникуме, затем в авиационном институте. В 1947 году поступил на сценарный факультет ВГИК'а. По окончании института работает сценаристом в кино, на радио и телевидении. По сценариям А. Леонтьева поставлены художественные фильмы «Бессмертная песня» (1958 г.), «Дорога уходит вдаль» (1960 г.) и «713-й просит посадку» (1962 г.). В основе повести «Белая земля» лежат подлинные события, произошедшие в Арктике во время второй мировой войны. Художник Н.

Эта повесть результат литературной обработки дневников бывших военнопленных А. А. Нуринова и Ульяновского переживших «Ад и Израиль» польских лагерей для военнопленных времен гражданской войны.

Владимир Борисович Карпов (1912–1977) — известный белорусский писатель. Его романы «Немиги кровавые берега», «За годом год», «Весенние ливни», «Сотая молодость» хорошо известны советским читателям, неоднократно издавались на родном языке, на русском и других языках народов СССР, а также в странах народной демократии. Главные темы писателя — борьба белорусских подпольщиков и партизан с гитлеровскими захватчиками и восстановление почти полностью разрушенного фашистами Минска. Белорусским подпольщикам и партизанам посвящена и последняя книга писателя «Признание в ненависти и любви». Рассказывая о судьбах партизан и подпольщиков, вместе с которыми он сражался в годы Великой Отечественной войны, автор показывает их беспримерные подвиги в борьбе за свободу и счастье народа, показывает, как мужали, духовно крепли они в годы тяжелых испытаний.
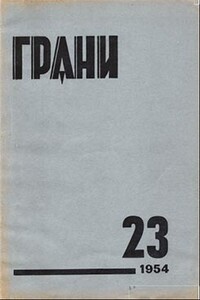
Рассказ о молодых бойцах, не участвовавших в сражениях, второй рассказ о молодом немце, находившимся в плену, третий рассказ о жителях деревни, помогавших провизией солдатам.

До сих пор всё, что русский читатель знал о трагедии тысяч эльзасцев, насильственно призванных в немецкую армию во время Второй мировой войны, — это статья Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса», опубликованная в «Правде» 10 июня 1943 года. Именно после этой статьи судьба французских военнопленных изменилась в лучшую сторону, а некоторой части из них удалось оказаться во французской Африке, в ряду сражавшихся там с немцами войск генерала де Голля. Но до того — мучительная служба в ненавистном вермахте, отчаянные попытки дезертировать и сдаться в советский плен, долгие месяцы пребывания в лагере под Тамбовом.

Ященко Николай Тихонович (1906-1987) - известный забайкальский писатель, талантливый прозаик и публицист. Он родился на станции Хилок в семье рабочего-железнодорожника. В марте 1922 г. вступил в комсомол, работал разносчиком газет, пионерским вожатым, культпропагандистом, секретарем ячейки РКСМ. В 1925 г. он - секретарь губернской детской газеты “Внучата Ильича". Затем трудился в ряде газет Забайкалья и Восточной Сибири. В 1933-1942 годах работал в газете забайкальских железнодорожников “Отпор", где показал себя способным фельетонистом, оперативно откликающимся на злобу дня, высмеивающим косность, бюрократизм, все то, что мешало социалистическому строительству.