На руинах нового - [4]
Получается, что мой древний китайский герой исключением не является, он скорее Великий Провозвестник Будущего Типического, – думал я, поглядывая на стайку молодых людей, делавших селфи у бамбукового павильона, который изображает древнюю китайскую хижину, маленькую пристань и прудик, на зеленой от ряски воде застыла бамбуковая же лодочка. Интересно, не в такой ли хижине жил Тао Юаньмин? Вряд ли, он там в стихах упоминает другие строительные материалы. И потом, здесь ни огорода нет, ни засеянного рисом поля, ничего. Да и за тучами следить на высоком небе он сейчас не смог бы – на Чэнду всегда возлегает влажный смог, дымка покрывает небо, что отчетливо видно на фотографиях, сделанных на моем айфоне. Когда я сюда приехал, то, естественно, бросился снимать все, что казалось странным и даже «живописным» – прежде всего, самые настоящие трущобы внутри университетского кампуса, в них живут старьевщики, а также рикши, которые возят студентов, преподавателей и обитающих здесь многочисленных просто людей, мне все это казалось достойным запечатлевания, снимки я, зайдя на чашку кофе в Commune, рассылал друзьям и близким. Один из друзей спросил, отчего так депрессивно и серо на этих фото. Я страшно удивился, так как мне казалось, что, наоборот, интересно, пестро и даже экзотично; до́ма пересмотрел на компьютерном экране и обнаружил, что между камерой и изображаемым всегда, даже вроде бы в якобы солнечный день, присутствует дымка, беловато-молочная, которая делает дома, растения и людей слегка потусторонними, что ли, как в сведенборговском аду. Это будто все они/мы здесь давно умерли, но не знаем об этом и продолжаем действовать, как заведено: старьевщики собирают барахло, спрессовывают картонные коробки, перевязывают их и наваливают огромной горой на свои трехколесные красные драндулеты с электрическим мотором, на которых здесь разъезжают все, кому не лень, а не лень в Китае всем, студенты в смешных нарядах из аниме неторопливо жуют на улице очищенные четвертинки ананасов на деревянных шпажках, которые продают по три юаня штука торговцы фруктами, оккупировавшие каждый угол кампуса, наконец, я брожу здесь и не верю своим глазам, не верю, что такое возможно, и все время зачем-то навожу на жизнь айфон – но на самом деле мы все на том свете. Что подтверждается вечным наличием дымки, намекающей, что где-то поблизости кипят-кипят адовы котлы, горит-горит зловещее пламя. Мой друг был прав, мысль эта довольно депрессивна. Но вот Тао Юаньмин точно жил не в аду, а в деревне. И как сказали бы законники, создал прецедент. Воплощен же он был в западном мире (а значит, и во всем мире, учитывая эпоху воплощения прецедента) в прошлом столетии, во времена высокого литературного модернизма.
Собственно, героев высокого литературного модернизма немало, но главных, как мне кажется, все же шесть. Не в смысле величия сочиненного ими – это вопрос всегда шаткий, и каждый сам решает, – нет, я говорю здесь о придуманных и реализованных ими версиях отношения писателя к окружающему миру, о способах преодолеть «разлад поэта с нынешним веком», который так беспокоил исполненного добрых чувств старика-землепашца из стихотворения Тао Юаньмина:
Как минимум к двум из шести героев высокого модернизма вполне мог такой старик с кувшином заявиться, не уверен, утром ли, но это уже древнекитайский экстрим. Первый из этих двух с удовольствием чокнулся бы с землепашцем, второй вряд ли отворил ему дверь. Огромная разница – и это притом, что второй был в свое время учеником первого, его секретарем и чуть было не стал даже зятем. Да, это Джойс и Беккет; каждый из них придумал свою тао-юаньминскую деревню и туда удалился. Любопытно, что место отправления у них было одно и то же: Дублин, Ирландия. И этот факт многое определил – как различия двух метафорических деревень, так и сходство.
Они оба родились как бы на краю большого мира, где-то между всеобщей в Британской империи английской культурой – и местной, ирландской, которая язык свой чуть было не потеряла, а начав возрождать, так усердствовала, что и Джойс и Беккет с ужасом оттуда сбежали. Джойс предпринял удивительный проект – он, удалившись от англо-ирландского мира, принялся тщательно реконструировать его, до самых мельчайших почесываний Леопольда Блума, до обмылка в кармане его брюк. Затея удалась – и вымышленный им Дублин 1904 года для нас гораздо реальнее настоящего, некогда бывшего. Собственно, отчасти этим искусство занимается – сделать вымышленный, сочиненный объект более реальным, нежели тот, что как бы существует в реальности, из деталей которого плод воображения и создан. Борхес в знаменитом рассказе назвал такой тип объекта «хрёниром»[5]. Джойс по-своему воплотил неотрефлексированно завещанное неизвестным ему Тао Юаньмином: он удалился, нет, плохое слово, он отдалился от мира, чтобы лучше понять свое к нему отношение, прежде всего свое соответствие тем самым «древним книгам», что побуждали его глубокие раздумья. Как говорил Стивен Дедал в «Портрете художника в юности», «путь в Тару лежит через Холихед». «Тара» (Tara) (насколько я могу вспомнить, не прибегая к недоступному в парке Ваньцзянлоу Гуглу) – ирландский топоним и название мифической древней столицы Ирландии. «Мифической», так как никакой единой Ирландии до окончательной колонизации острова англичанами не было. Иными словами, в слове «Тара» сконцентрированы Великие Древности. Здесь и легенды о героях, и знаменитая ирландская монастырская ученость, и народные песни, все-все ирландское. И путь к этому эссенциально-подлинно-ирландскому лежит через Холихед, порт на острове Энглси, куда в XIX–XX веках прибывали эмигрировавшие из Ирландии ирландцы. Собственно, это Джойс и попытался сделать, только его Тара – не древняя, а современная его молодости, Дублин времен классического капитализма, а значит, – учитывая универсализм капиталистических производственных отношений, буржуазной городской культуры и так далее – эта Тара разом национальная и всеобщая. Она касается любого западного человека. Этот удивительный фокус превращения локального в глобальное Джойс проделывал все те годы с того момента, когда они с Норой проехали через Холихед. Джойс перетаскивал свою портативную тао-юаньминскую деревню из Триеста в Цюрих, из Цюриха в Париж, из Парижа обратно в Цюрих, точно определив для себя степень удаления от мира. С одной стороны, он как бы говорил обо всем мире сразу – да и им как бы говорил весь разноязыкий мир, что Джойс попытался доказать в Finnegans Wake. С другой – он жил в бедности, окруженный семьей, опустошая кувшин за кувшином, сочиняя странные тексты, смысл которых мир, занятый всякой ерундой, вроде Первой мировой, решительно не понимал. Достаточно вспомнить знаменитую историю о том, как военный цензор перехватил одну из глав «Улисса», посланную Джойсом по почте приятелю. Цензор решил, что это шифрованное сообщение военного характера и забил тревогу.

В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является «история». Во-первых, собственно история России последних 25 лет. Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные «истории» из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества.

Книга К.Р. Кобрина «Средние века: очерки о границах, идентичности и рефлексии», открывает малую серию по медиевистике (series minor). Книга посвящена нескольким связанным между собой темам: новым подходам к политической истории, формированию региональной идентичности в Средние века (и месту в этом процессе политической мифологии), а также истории медиевистики XX века в политико-культурном контексте современности. Автор анализирует политико-мифологические сюжеты из средневекового валлийского эпоса «Мабиногион», сочинений Гальфрида Монмутского.

Книга Кирилла Кобрина — о Европе, которой уже нет. О Европе — как типе сознания и судьбе. Автор, называющий себя «последним европейцем», бросает прощальный взгляд на родной ему мир людей, населявших советские города, британские библиотеки, голландские бары. Этот взгляд полон благодарности. Здесь представлена исключительно невымышленная проза, проза без вранья, нон-фикшн. Вошедшие в книгу тексты публиковались последние 10 лет в журналах «Октябрь», «Лотос», «Урал» и других.

Истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне — энциклопедия жизни времен королевы Виктории, эпохи героического капитализма и триумфа британского колониализма. Автор провел тщательный историко-культурный анализ нескольких случаев из практики Шерлока Холмса — и поделился результатами. Эта книга о том, как в мире вокруг Бейкер-стрит, 221-b относились к деньгам, труду, другим народам, политике; а еще о викторианском феминизме и дендизме. И о том, что мы, в каком-то смысле, до сих пор живем внутри «холмсианы».

Книга состоит из 100 рецензий, печатавшихся в 1999-2002 годах в постоянной рубрике «Книжная полка Кирилла Кобрина» журнала «Новый мир». Автор считает эти тексты лирическим дневником, своего рода новыми «записками у изголовья», героями которых стали не люди, а книги. Быть может, это даже «роман», но роман, организованный по формальному признаку («шкаф» равен десяти «полкам» по десять книг на каждой); роман, который можно читать с любого места.
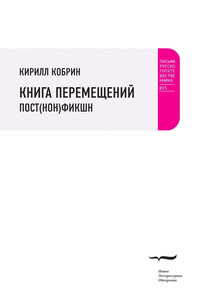
Перемещения из одной географической точки в другую. Перемещения из настоящего в прошлое (и назад). Перемещения между этим миром и тем. Кирилл Кобрин передвигается по улицам Праги, Нижнего Новгорода, Дублина, Лондона, Лиссабона, между шестым веком нашей эры и двадцать первым, следуя прихотливыми психогеографическими и мнемоническими маршрутами. Проза исключительно меланхолическая; однако в финале автор сообщает читателю нечто бодро-революционное.
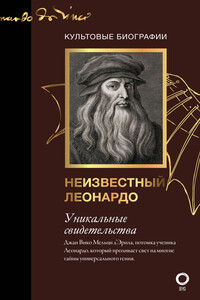
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
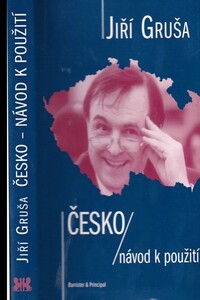
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.