Мужские прогулки. Планета Вода - [39]
Что-то происходило с ней сейчас, свершались какие-то таинственные внутренние сдвиги, незримые изменения…
Вчера она возвратилась от Михаила Михайловича на рассвете. Они шли по не прибранным еще, безлюдно-голым улицам, и звук шагов звонко отскакивал от каменных стен и, отраженный, усиленный эхом, отдавался где-то в провалах дворов. За всю длинную дорогу они не произнесли ничего такого, что бы запало в память. Она лишь помнила это гулкое эхо шагов да молчание. В ней было только одно молчание. Все слова, все чувства, привычные для ее прежнего существования, остались где-то за чертой вчерашнего дня. Ее прошлое отлетело далеко и с каждым шагом отодвигалось все дальше. У нее было странное ощущение, что по городу идут двое, и ни одного из них она не знает…
И вот сейчас, когда ей никто и ничто не мешает, она должна для себя определить что-то очень важное…
Вернувшись тогда домой, она еще немного вздремнула, потом приняла холодный душ и, не завтракая, поехала на работу. Молчаливая толпа перемещалась в автобусе, то редела, то густела, не затрагивая ее. Но вот у центрального рынка шумно ввалились крестьянки, жующие на ходу хлеб с мороженым. Их пустые корзины, алые от сока ягод, забили проход. Зоя потеснилась в своем углу и оказалась лицом к лицу с пожилой, дочерна загорелой крестьянкой. Та вдруг уставилась на Зою и всю дорогу не сводила с нее хмурого пристального взгляда. Под этим упорно неприязненным брезгливым взглядом Зоя смущалась все больше и больше. Лицо ее пылало, и ей казалось, что на ее щеках выступили вчерашние поцелуи и горят греховно и вызывающе. У нее подкашивались ноги, еще немного — и она упала бы в обморок. Еле дождавшись остановки, без сил выскользнула из автобуса. И долго еще во всех встречных ей чудился суровый осуждающий лик старой крестьянки.
В коридоре управления в кучке курильщиков оживленно болтала Зина. Завидев приятельницу, она удивленно вскинула брови.
— Прическу, что ли, сделала… Или платье новое… — полувопросительно сказала она.
— Прошлогоднее платье, — пролепетала Зоя.
— Странно, не помню…
…В укрытии под одеялом стало душно, но Зоя словно не замечала этого. Она была всецело поглощена мыслями о Фиалкове. В этой сосредоточенности крылось радостное наслаждение: предвкушать волнение свидания, угадывать, распознавать чувства другого человека. Как они встретятся в следующий раз? И встретятся ли вообще?.. Чем дольше Зоя раздумывала над характером Михаила Михайловича, тем большую загадку он являл, тем меньше она его понимала. По первому впечатлению он показался ей человеком напористым, твердым, самоуверенным. Но затем интуиция подсказала ей, что его высокомерие, надменность — не что иное как самозащита, так морская раковина облекает твердым панцирем уязвимое нутро, с улыбкой снисходительности вспомнила Зоя те качества Фиалкова, которые не казались ей обязательными в мужчине. Его впечатлительность, развитое самолюбие, вспыльчивость, беспомощность, когда дело касалось защиты собственных интересов… Она безотчетно поняла и определила меру ранимости этой души и дала себе слово ничем не ущемлять ее достоинство…
Кто-то настойчиво застучал в дверь. Это удивило Зою, и она, накинув халат, отправилась открывать. На пороге стоял Михаил Михайлович. Его лицо было бледно и строго. Она молча глядела на него.
— Я звонил… телефон не отвечал.
— С чего вы взяли, что я дома? — удивилась она.
— Я знал.
Она стояла неподвижно, с закинутыми руками, то ли поддерживающими рассыпанные волосы, то ли воздетыми в отчаянии. «Нет, нет, этого не должно быть!» — приказывала она себе и ему — обоим. И в ту же минуту безнадежно и самозабвенно опустила руки на его плечи.
Дни летели, как в угаре. Днем — работа. Михаилу Михайловичу выпал случай попробовать себя на трудных операциях. Привезли откуда-то из района девочку с опухолью гортани. Из села поступил мальчик десяти лет, невзначай выпивший уксусную эссенцию и сжегший пищевод. Михаил Михайлович оперировал удачно — вряд ли можно лучше. Он в эти дни чувствовал себя талантливым, уверенным, как бы летящим на крыльях. Задуманное ладилось, получалось. Но все казалось мало. Ему хотелось стать лучше, хотелось совершить какой-нибудь подвиг, чтобы она увидела, какой он, чтобы она любовалась и гордилась им. Воодушевление его дошло до такой степени, что он засел за диссертацию и за короткий срок выдал отличный план, так что даже «шефиня» удивилась: «О, голубчик, да у вас не только руки хорошие, у вас и голова варит! Будет степень, будет. Вон твоя диссертация по коридору бегает».
А по вечерам Фиалков встречался с Зоей. Он не думал ни о чем. Забыл обо всем, кроме нее. Зоя оказалась удивительной женщиной. Каждый раз она представала новой. И он открывал ее каждый раз то с восхищением, то со страстью, то с испугом…
Фиалкова всегда окружали юные девчонки — «сыроежки», как обидно именовал их Гаврилов, имея в виду не только возраст, но что-то еще. Двадцатилетние подружки Михаила Михайловича обладали преимуществом свежести, юности, но и только. С беспечной молодой наивностью они мололи очаровательные в их устах глупости, а уличенные в таковых, так же беспечно смеялись над собой вместе со всеми. Они жадно внимали каждому слову Михаила Михайловича, охотно учились всему, что знал он сам, о чем читал, думал; точно губки, впитывали всеми порами чужой опыт, но так же легко забывали то, чему учились. С такими девчонками было легко, но и надоедали они быстро. Довольно образованные, милые, одинаковые, будто взаимозаменяемые, какие-то пустенькие, они объединялись невероятной жадностью к жизни, неразборчивой всеядностью. Правила морали не то что не были знакомы им, просто девочки ухитрялись существовать вне их. Они не гнушались ничем: увести у беременной подруги мужа, заработать на перепродаже дефицитной кофточки, сдать курсовую работу, выполненную влюбленным сокурсником, — все это делалось одинаково изящно и легко, точно веселая невинная забава. Любовь к ним бестягостна и необременительна, не требует никакой душевной работы. Фиалкова прельщало в них еще одно качество: когда он оставлял их без всяких объяснений, они не устраивали сцен, не требовали этих самых объяснений, воспринимали разрыв как должное.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
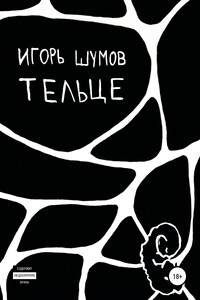
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).