Мартон и его друзья - [137]
Сдержанно, можно сказать даже подозрительно, встречал Йошка поначалу тех, у кого обнаруживал черты, сходные с его собственными. Ему казалось, что кто-то нащупал его тщательно скрываемые струны и хочет играть на них.
…Владимиров пришел точно в назначенное время, и, чтоб отметить это, ибо комната была уже битком набита людьми, он вытащил часы, взглянул на них и приложил даже к уху, словно желая удостовериться: ходят они или нет? Потом опустил их в карман небрежно, словно носовой платок. Он тихо приветствовал собравшихся, низко поклонился, что показалось странным не только Йошке Франку, но и всем остальным. Странным и милым. От такого приветствия они, казалось, выросли в собственных глазах. Владимиров поклонился, а они, встав навытяжку, кивали в ответ, словно хотели тут же ответить подарком на подарок.
Владимиров не улыбнулся, как сделал бы на его месте человек, желающий быстро понравиться и войти в доверие, но и не состроил важной физиономии, как делают те, что стремятся создать себе авторитет и установить известное расстояние между собой и остальными. Он сел. Неторопливо, не желая смущать никого, разглядел каждого сидевшего за столом. Прошел, должно быть, час, — беседа и спор все больше разгорались, — когда бородатый Владимиров впервые даже не заговорил, а только рассмеялся в ответ на какое-то острое, шутливое замечание. Рассмеялся весело, ото всей души.
Прошло еще порядочно времени, пока он попросил слова и заговорил просто, умно, без претензий. Но не только это покорило собравшихся, а и голос его, заполнивший все уголки комнаты, алькова и даже кухни, также и его иностранный акцент, доказывавший, что Владимиров и вправду приехал из чужой страны.
На людей действовало и то, что они знали о Владимирове, и то, что предполагали о нем. А он вел себя так, словно то, что он сказал, совершил в жизни, и тем более то, что предполагали о нем, все это относится вовсе не к нему.
Собравшиеся за столом гудели, как листья на ветру: если подымался какой-нибудь важный вопрос, все сразу шумели, менее важный — говорили только некоторые, и притом каждый по отдельности. Затем снова подымался общий гул, и даже руки двигались, будто ветви одного дерева.
Владимиров еще раз попросил слова. Теперь он уже встал. Чувствовалось, что он сдерживается, иначе его зычный голос мог бы загреметь на целый громадный зал. Но сразу же после первых его замечаний и предложений люди стали прислушиваться не к голосу, а к словам Владимирова. Все задумывались, нащупывали их смысл, и то один, то другой восклицали даже: «Верно! Верно!.. Правильно!»
Он помянул про какой-то городок на Волге, рассказал об одном случае, который произошел там много лет назад. Случай был на верфи, но сейчас он пришелся кстати к их разговору.
— Той порой мне было двадцать четыре года, — сказал Владимиров. — Я жил и работал, — он сделал паузу, — на Волге.
И впервые глянул не на сидевших вокруг, а в окно комнаты. И закивал головой. И всем показалось, будто Волга протекает где-то тут, совсем рядом, под окнами у Пюнкешти.
Йошка Франк смотрел на Владимирова все с большим и потому со все более сдержанным восхищением. И, наконец, сдался, к тому же вдруг заметив впервые, что Пирошка смотрит на него сверкающими глазами. Йошка зарделся. Глаза его расширились, они словно выросли, стали еще больше. Йошке казалось, что вот они уже заполнили все его лицо и горят и искрятся в ответ Пирошке. Пирошка и Владимиров смешались в нем.
Позднее тоже всю свою недолгую жизнь он не мог отделить их друг от друга, хотя, казалось бы, что могло быть общего между тоненьким девичьим лицом Пирошки и бородатым лицом Владимирова, тяжелым мужским басом и тонким девичьим голоском? Йошка не мог отделить их друг от друга, быть может, потому, что оба они воплощали для него то, в чем Йошка обрел смысл жизни: Пирошка — любовь, а Владимиров — борьбу за человеческое существование.
Жена Пюнкешти насыпала уже чай в большую кастрюлю с кипящей водой, внесла ее в комнату и половником через сетку стала разливать чай по чашкам. (В осенние ненастные дни и зимой Анна всегда заваривала чай.) Каждый получил к чаю по куску сладкого пирога с запеченной сверху решеткой из теста. Между прутьями решетки алое варенье пылало так, будто в окнах тюрьмы свет зажегся. Пирог испекла сама хозяйка. Нашлось немного мучицы, что Маришка привезла из деревни: хотела отплатить за гостеприимство, оказанное ее брату Пиште.
Пироги съели, чай выпили. Обсудили и все происшествия за неделю, излили свои жалобы, пошутили и натешились вволю, ведь говорится же, «бедняк только шуткой и богат», хотя другие, правда, считают, что «бедняк только женой богат».
На улице пошел дождь. В комнате зажгли лампу. Порывы ветра то и дело стучали в окно. При тусклом свете керосиновой лампы видно было, как капли дождя катятся вниз по стеклу, точно темные жемчужины. Слышалось, как непрестанно скулят и скрипят оконные рамы.
Пишта кинул сперва строгий взгляд на окно: «Что за беспорядок?» Потом простил и дождю и ветру и мечтательно промолвил:
— Стекла плачут…
За окном была кромешная тьма. «Каково же сейчас на фронте, в окопах?» — подумала Анна Пюнкешти и погладила руку Терез Новак.
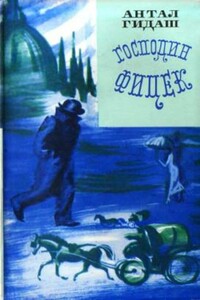
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.
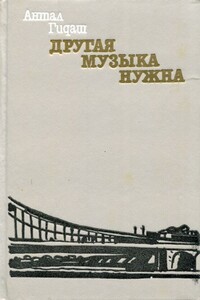
Действие романа известного венгерского писателя Антала Гидаша (1899—1980) охватывает время с первой мировой войны до октября 1917 года и происходит в Будапеште, на фронте, переносится в Сибирь и Москву.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…