Мартон и его друзья - [138]
…Пирошка писала под диктовку, читала вслух, вычеркивала, что не нравилось собравшимся, и опять громко читала. Когда вычеркивали фразу, предложенную кем-нибудь, тот ругался, иногда, правда, уступал. Пирошка вставляла опять то одно, то другое, «а иначе какой же смысл писать письмо?». Потом больше половины вставок вычеркивала опять, ибо все с удивлением замечали, что получилось слишком длинно и «кой черт прочтет столько?».
Пирошке казалось, что особенно много хлопот доставляет Элек Шпитц, хотя хлопот с ним было не больше, чем с другими. Но Пирошке не нравились нервная физиономия наборщика и его косые глаза, придававшие лицу какое-то странное выражение. Карманы Элека Шпитца были набиты грязными скомканными бумажками, на которых наборщик время от времени записывал карандашом какие-то «необычайно важные мысли». Записи свои он и сам еле разбирал.
— Так нельзя… Да… Да… Вспомнил… Это важнее всего… Сейчас разберу… Можете вы минутку подождать?!
Пирошка переписывала все набело, потом чистовик исправляла опять. Девушка безропотно бралась за переписку, хотя и не понимала, почему все это так занимает отца с матерью, и остальных, и этого русского с красивым голосом, и Йошку Франка. Почему не скажут они попросту, что с тех пор как началась война, жить стало очень тяжело, получки не хватает, жалованья не прибавляют, а рабочий день стал длинней. Пусть кончают с войной, пусть наступит мир, пусть не гонят людей на фронт, потому что там их всех перестреляют. А вместо этого ей диктуют про какую-то классовую борьбу, какое-то предательство и марксизм. Поначалу она не знала даже, как это слово пишется. И почему их интересует не только то, что происходит в Венгрии, в Будапеште, у них на заводе, а и то, что творится в Лондоне, в Петрограде, в Штутгарте, и в Базеле, и в Париже; и какой-то шовинизм, и какой-то Интернационал, который и существует вроде и не существует. Голос Пирошки не вязался с тем, что она читала. Армии, государства, колонии, классы, товары и рабочие часы, партии, прибыль и сверхприбыль — все это в беспорядке металось перед ней на бумаге.
«Куда девались II Интернационал и решения, принятые в Базеле и Штутгарте против войны?» — написала Пирошка, потом прочла вслух и украдкой кинула взгляд на Йошку. Он поймал ее взгляд и ответил улыбкой. А что еще надо было Пирошке? Ей уже было хорошо, хоть и надоела вся эта история и рука уже устала писать, — и все-таки ей хотелось закончить письмо в «Непсаву».
— «Почему «Непсава» в своей передовице от двенадцатого сентября заявляет, что война с внешним врагом требует внутреннего мира, почему это заявление повторяет речь Иштвана Тисы, который говорил: «Первое, что стало явным в дни войны, это всеобщее братство всех членов нации»? Почему пишет «Непсава», что мы радуемся уничтожению людей? Почему называет она в номере от девятого сентября хозяина завода боеприпасов Манфреда Вайса Чепельского гуманным человеком?»
Пирошка снова глянула на Йошку Франка. Лицо парня было в тени, так же как и лица всех сидевших за столом. Желтый свет, затененный зеленым абажуром лампы, озарял только стол и руки, лежавшие на столе.
Йошка разглядывал это собрание рук. Он напряженно слушал, о чем говорят, и временами, поймав взгляд Пирошки, улыбался ей. А Пирошка ниже опускала голову и с таким чувством читала письмо, словно в нем говорилось о самой пылкой любви.
— «Почему радуется «Непсава», что взяли Белград, и почему хвалится, что ее вечерний выпуск первым, «обогнав все остальные газеты, довел до сведения публики это великое событие»? Почему считает она это своей «нравственной победой»? Почему ставит нам в пример немецкого социал-демократического депутата Франка, который «добровольно пошел на войну и погиб первый», и почему добавляет «Непсава» радостно, что все депутаты парламента встали, услышав эту весть и запели «Deutschland über alles»? И почему профсоюзы отдали на военный заем деньги, собранные в фонд борьбы?
Чем объясняется, что русские меньшевики считают, будто война идет во имя свержения германского милитаризма и прусской юнкерской власти, а «Непсава» утверждает, что мы хотим уничтожить русский абсолютизм и потому воюем? Так где же правда?»
Пирошка писала, перечитывала написанное вслух. Ее тоненькие пальцы аккуратно вели перо. И хотя ручка была слишком толста для этих изящных девичьих пальцев, она все-таки повиновалась им. Чуть подальше лежали руки Пишты. Они были намного больше Пирошкиных — красные, в свежих царапинах и старых заживших рубцах. У Йошки Франка рука была сильная, но бледная: консервные соки, словно щелок, разъели кожу на пальцах. Юноша держал на столе одну руку, сжатую в кулак. Сбоку от него распластались две старые коричневые руки с потрескавшейся кожей. Кирпичная пыль въелась и в кожу вокруг ногтей. Когда хозяин говорил, указательный палец подымался, но потом быстро присоединялся к остальным пальцам, будто те шептали ему: «Да не дури ты, отдыхай, пока можно!» Но минуту спустя — стоило только хозяину заговорить — палец снова подымался: «Что такое? Уже понедельник? Нет?.. Тогда оставь меня в покое!.. У меня и так на всю неделю работы хватит». Напротив на столе, в свете лампы обнимались пальцы некогда красивых женских рук — это, сплетя пальцы, сидела Анна. Пирошка хорошо знала каждый палец матери, но теперь почему-то — в этом тоже Йошка был виноват — мамины руки тронули девочку до слез. Ей больше всего хотелось бы нагнуться сейчас же и поцеловать их и лежавшие рядом отцовские руки, их решительные подвижные пальцы, пожелтевшие от табака. И сейчас тоже они сворачивают самокрутку с такой силой, с такой точностью, будто обтачивают деталь на токарном станке. На противоположном конце стола сидел Флориан. Возможно, он редко мыл руки, а может, и всей дунайской воды не хватило бы, чтобы отмыть эту черную, въевшуюся в кожу смолу.
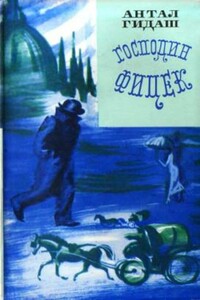
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.
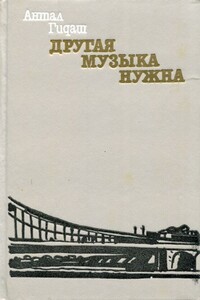
Действие романа известного венгерского писателя Антала Гидаша (1899—1980) охватывает время с первой мировой войны до октября 1917 года и происходит в Будапеште, на фронте, переносится в Сибирь и Москву.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…