Мартон и его друзья - [136]
— Ведите себя хорошо, — наказала она на прощанье, — идите к тете Палотаи, попозже я приду за вами.
А комната бурлила и клокотала. Хозяйка принесла из кухни чашки с блюдцами и раздала их всем. Белые фарфоровые чашки и блюдца порхали над столом, словно гигантские снежинки, пока не садились на свои места.
Чета Пюнкешти купила себе сервиз в первый и последний раз в жизни ко дню свадьбы. С тех пор чашки и блюдца пополнялись по мере того, как разбивались прежние. Поэтому все они были разные.
Хозяину дома досталась старая чашка: Анна погладила эту изношенную временем посудину, единственно уцелевшую от некогда юного фарфорового сервиза, чашки которого прежде так нежно сияли друг другу.
Пишта вел себя степенно, но после столкновения с Флорианом попытался состроить такую важную физиономию, будто он здесь не только незаменимый главный распорядитель и ответственный хозяин, но и над всеми собравшимися начальник. Он никому не улыбался. Провел мокрыми руками по волосам, пригладил их назад. От этого белокурые пряди, нависавшие обычно на глаза, легли как-то непривычно, и лоб мальчика стал будто кривым, лицо еще более худым и длинным. Каждую чашку, блюдце и гулявшую по кругу ложечку Пишта провожал глазами, словно кошка, когда перед ней размахивают чем-нибудь и она готова хоть сто раз водить туда и обратно головой.
Собравшиеся переговаривались между собой. С соседом, сидевшим рядом, говорили тихо, через стол — громко. Входя из кухни в комнату, Тамаш каждый раз останавливался.
Сегодня супруги Пюнкешти были в дурном расположении духа. Помимо собрания, легла им на душу и другая забота. Нечто незнакомое до той поры вошло к ним в семью, и Пюнкешти вдруг растерялся, не зная, как поступить.
Пирошка служила в издательстве «Толнаи Вилаглапья» в отделе подписки. Получала мало, около тридцати крон. На них, после того как цены так внезапно подскочили, можно было купить разве что пару башмаков или шесть килограммов жиров. И вдруг директор издательства пригласил к себе «барышню Пюнкешти» и после двухчасовой беседы бесцеремонно и даже весело, словно речь шла о том, что Пирошка должна переменить прическу или другую ленту повязать в волосы, предложил ей за сто пятьдесят крон жалованья стать его «секретаршей» и любовницей. Все это произошло вчера.
Пирошка внешне спокойно (это она унаследовала от отца) рассказала родителям о случившемся, сообразив предварительно выпроводить братьев из комнаты.
Мать встретила рассказ по-своему: «Пойду и надаю ему по морде!» Отец замер. Казалось, он ничего не понял. Его поразило прежде всего то, что ему, мужчине, довелось такое услышать от дочери. Пюнкешти пришел в замешательство, но его черные, неподвижные глаза ничем не выдали его.
До сих пор Пюнкешти считал Пирошку девочкой, которую, как ему казалось, он еще совсем недавно носил на руках… А потом что же, у Пирошки нет ни отца, ни матери, что ли? (Неизвестно почему, но Тамашу этот довод представлялся наиболее важным.) Что ж он, Пюнкешти, не состоит в союзе, не уважаем всеми? И не его добрая жена родила, вынянчила и воспитала Пирошку? И вот является кто-то и ни с того ни с сего вызывает к себе его маленькую дочку, приглашает сесть И попросту говорит ей: «Будьте моей любовницей». Что же это такое? И он мысленно добавил то слово, с которым обычно все становилось для него значительнее: «Товарищи, — воскликнул он про себя, — товарищи, да что же это такое?»
Говорят, что у Йошки Франка с самого рождения было серьезное лицо, словно с первого дня жизни Йошка думал о том, как бы скорей, скорей освободиться от беспомощного состояния младенчества и перейти к самостоятельному образу жизни. «Я сам!» — говорил маленький Йошка Франк по любому поводу. И все-таки этот серьезный и сдержанный мальчик всегда, пусть даже не во всем, но кому-то подражал. До десяти лет он так же быстро ввязывался в драку, как и главарь городских разбойников — могучий Японец. Потом голос его слышался так же редко, как и голос его отца. Затем идеалом его стал Дёрдь Новак. Йошка старался смеяться, сердиться и говорить так же, как Новак, и даже склонять голову набок во время ходьбы так же, как он. Потом Йошка пытался смотреть таким же взглядом, как Тамаш Пюнкешти, и тоже не сразу отвечал на вопросы собеседника.
Разумеется, Йошка Франк не случайно избирал объект для подражания. И все-таки со временем все ярче и ярче вырисовывался в нем тот парень, который не был похож ни на один из своих идеалов. Он был более гордым, чем отец, более преисполненным веры, чем он, и более мечтательным, хотя и скрывал это. Он был более трезвым, чем Новак, и не таким насмешливым, как он. Йошка так презирал существующее общество, оно было так чуждо ему, что даже на насмешки не желал тратить времени. Он был умнее Тамаша Пюнкешти и во время беседы хоть и молчал, как и он, но не потому, что не находил сразу ответа, а потому, что до конца хотел прощупать собеседника. Если Йошка Франк принимал что-нибудь за истину, то эта истина была действительна прежде всего для него самого, а не вообще. Открытие истины было для него что рельсы для паровоза. Он мог бежать уже только по ним, и если сходил с них, то прекращалась и движение и жизнь.
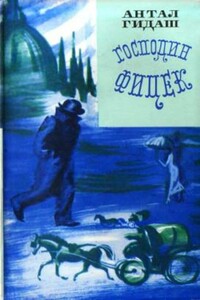
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.
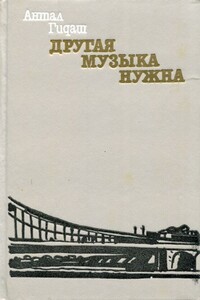
Действие романа известного венгерского писателя Антала Гидаша (1899—1980) охватывает время с первой мировой войны до октября 1917 года и происходит в Будапеште, на фронте, переносится в Сибирь и Москву.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…