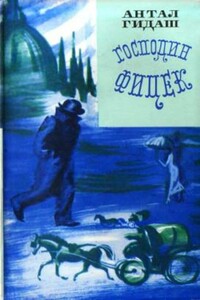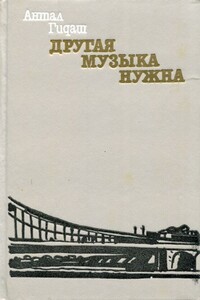Доминич сидел оглушенный.
— Каждую чепуху всерьез принимать…
— Поклянись, что больше никогда…
Доминич пробормотал нечто вроде клятвы. На лбу у него испуганно подергивалась кожа. Шаролта не выдержала этого, ослабела и разрыдалась. Ее Пишта, которого она боялась, уважала, сидит теперь перед ней жалкий, сгорбленный, готовый пасть на колени!
— Пиштука! — вырвалось у нее вместе с рыданьями. — Ну, зачем, зачем тебе это надо?
Доминич тут же опомнился.
— Бестия! — проворчал он. — Ладно, так и быть, больше не пойду… но…
И он встал. Отряхнулся сперва, потом толкнул Шаролту, которая, услышав «так и быть, больше не пойду», тут же просияла сквозь слезы.
— А за это мы еще рассчитаемся! — и Доминич показал на лицо, горевшее пунцовыми пятнами.
Он выхватил из шкафа осеннее пальто и в несколько прыжков очутился у дверей, потом на лестнице и снизу еще раз заорал:
— Бестия!
На улице он глубоко вдохнул сырой воздух и выругался. Срам!.. Допустил, чтоб жена надавала ему пощечин. Ему?! И он побежал к трамваю. Вскочил на подножку битком набитого вагона, ехал некоторое время, вися на руках, потом стал пробивать себе дорогу. Как только в вагоне освободилось место, Доминич тут же плюхнулся на него и начал искать бумажку, на которой Шниттер записал ему адрес Пюнкешти. «Тоже небось вытащила из кармана? Бестия!» Наконец нашел ее. «Улица Пратер, 18, III этаж, 43». Выглянул в трамвайное окошко. Голые деревья, стоявшие вдоль тротуаров, гнулись под тяжестью ливня. Порыв ветра швырял иногда в окна трамваев опавшие листья. Доминич старался привести в порядок свои мысли. Он энергично подкрутил сникшие от переживаний усы. «Не пойду к Пюнкешти… Прямо к ней…» И ухмыльнулся. «Вовремя приду домой». Усы его победно поднялись кверху, и Доминич, желая компенсировать себя за пережитые страдания и унижения, как и каждый раз поступал в подобных случаях, начал мысленно держать депутатскую речь: «Достопочтенные господа депутаты! Имеет или не имеет право будущий венгерский депутат держать любовницу? А если имеет, то прошу довести до сведения его величества, что, как только меня изберут депутатом, я разведусь со своей женой!»
2
Мало того, что разные люди по-разному судили о квартире Пюнкешти, но даже он сам отзывался о ней по-разному.
В день, когда надо было вносить плату, Пюнкешти считал, что его квартира слишком велика, хотя обычно уверял, что в ней повернуться негде.
Домохозяин заприходовал ее как большую и, конечно, дешевую и соответственно этому безжалостно забирал под видом квартирной платы одну треть заработка Пюнкешти.
Сообщим, однако, точные данные.
Квартира состояла из комнаты с альковом и кухни. На комнату ушло четырнадцать квадратных метров, на альков — пять, а на кухню — семь. Кроме семьи Пюнкешти — она насчитывала шесть душ, — в квартире ютились всегда разные временные постояльцы. Один приходил, другой уходил — движение никогда не прекращалось. «Хороший товарищ, деваться ему некуда», — говорил жене Пюнкешти, вернувшись с кем-нибудь вечером из союза, и глаза его смотрели по-детски серьезно. Могучая рослая Анна Пюнкешти молча окидывала взглядом гостя, который иногда доверчиво и сразу вступал в разговор, а иногда смущался: регистрировала его внешние данные, и хоть они и оказывали влияние, однако не определяли ее мнения. Чтобы дети не мешали дальнейшему знакомству с «хорошим товарищем», которому некуда деваться, Анна усаживала его обычно на кухне. Наливала чашку кофе, брала в руки вязанье, садилась за стол напротив гостя и углублялась в работу. Разговор заводила самый обыденный и только изредка подсовывала какой-нибудь существенный вопрос, не подымая даже глаз от работы. «Выпейте чашку горячего кофейку… Женаты?.. Положите еще кусочек сахару… А какая у вас специальность?.. (Спицы усердно сновали.) А где вы жили до сих пор?.. Давно ли без работы?.. (Спицы сновали еще усердней.) Выпиваете?.. Часто?..» Анна иногда сразу проникалась сочувствием к небрежно или, наоборот, вдумчиво отвечавшему человеку, который, отхлебывая кофе, обычно тоже с интересом разглядывал хозяйку. Случалось, что Анна только через несколько дней распознавала человека. Иногда же новый постоялец сразу оказывался ей не по душе, и она откладывала в сторону вязанье. Так или иначе, но Анна уходила в альков, стелила постель и говорила: «Нынче у нас переночуете, а дальше видно будет».
Пюнкешти следил за лицом жены и, когда чувствовал что-то неладное, всячески старался выгодно истолковать Анне слова гостя. Радовался, если жена отвечала на его взгляд и в знак согласия опускала ресницы. В уголках губ Анны появлялась та, для других едва заметная черточка-улыбка, разнообразные значения которой были известны только ему, Тамашу Пюнкешти. Но если она не появлялась, Пюнкешти замолкал и начинал терзаться сомнениями: уж не поторопился ли он, не обернется ли «гостеприимство» чем-нибудь дурным? Его всегда серьезное лицо становилось еще серьезней. Таким серьезным, что жена преисполнялась жалостью к Тамашу, но черточка-улыбка все-таки не появлялась. И в этих случаях, что бы Анна ни говорила, Тамаш все равно не успокаивался.