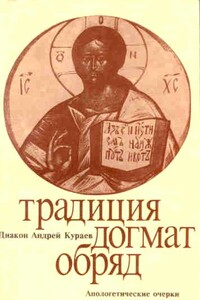Лекции - [19]
Я приведу чисто военный пример: когда надо захватить плацдарм, тяжёлую технику оставляют на том берегу. Так же и в вере: сначала хоть зубами вцепись в Евангелие, а потом постепенно подтягивай тяжёлую технику аргументов, силлогизмов, доказательств и так далее… Со временем это придёт. Но вот «сведение ума в сердце», как это называется на языке добротолюбия, — это то, что требует времени…
Надо ли приводить сейчас огромное количество цитат из святых отцов, которые говорят о пользе разума? Я приведу, может быть, только один пример. Святитель Григорий Нильский вспоминает, как евреи уходили из Египта. И Моисей повелел евреям забрать всё золото, которое было в домах у египтян, как плату за века рабства. И Григорий Нильский говорит так: «Это пример, как мы себя должны вести по отношению к светской мудрости». Всё доброе, всё то богатство, что есть в мире светском — в мире внешней культуры, мы должны взять с собою в церковь. Ту же мысль обосновывал старший брат Григория Нильского — святой Василий Великий. У него ещё проповедь — поучение юношам о пользе изучения языческих сочинений. Ещё Апостол Павел говорил об этом: «Всё исследуйте — доброго держитесь».
А если обращаться к нашему времени, я всё‑таки перескажу вам один детектив Честертона. «Сапфировый крест» называется. Сюжет такой: на пароходе из Франции через Ла–Манш плывёт паром, и на нём едет священник — отец Браун. Но оказывается здесь ещё один священник. Естественно, два католических священника на одном корабле — они знакомятся, друг с другом начинают беседовать. Кончается тем, что отец Браун вызывает полицию, и полиция арестовывает второго священника, потому что оказалось, что это Фламбо — вор международного масштаба, переодетый в священника. А разговор у них был очень высокий — на высоком богословском уровне. И вот когда Фламбо арестовывают (он всё‑таки джентльмен), он спрашивает отца Брауна: «А всё‑таки, отче, скажите, как вы догадались, что я не священник?» И тот ему говорит: «Ну, вы знаете? Вы нападали на разум. У священников это не принято». Понимаете, Честертон мог бы написать целый трактат на эту тему — со ссылками на Фому Аквинского, на Августина, на Иоанна Златоуста и так далее… Кто бы в Англии это тогда стал читать? Он написал детектив, в котором этой одной фразой написана целая история.
…На самом деле, пример прямого столкновения интересов церкви и науки был только один за всю историю. Это казус гелиоцентризма (XV‑XVI век). Для того чтобы этот вопрос стал понятен, я задам несколько вопросов вам. Обычный миф, преподаваемый в университетах (не только в России, но и во всём мире), говорит: наука развивается только тогда, когда накапливаются новые данные и эти новые данные требуют создания новой теории, новой парадигмы и так далее… У меня теперь вопрос к аудитории: скажите, какие новые научные данные были накоплены в европейском средневековье — так, что они породили научную революцию 16–17 веков? Какие научные открытия были сделаны?
А ничего серьёзного. Более того: на самом деле, арабская наука средневековья была развита лучше, чем европейская. Почему? Вот теперь самый главный вопрос: почему научная картина мира возникла только в христианском регионе? Набор натурфилософских первичных знаний о мире в принципе одинаков у всех древних культур (плюс–минус шаг в сторону): у индусов, у китайцев, у египтян, у древних греков, у арабов. Почему наука возникает только в христианском мире притом, что набор знаний одинаков?
А, значит, культурная парадигма другая. Для примера… Мы с вами помним слова Галилея: «Эксперимент — это пытка, которой я подвергаю природу». Это означает, что в пантеистической культуре наука возникнуть не может. Потому что, если Мир (космос) — это тело божества, тело божества пытать нельзя. Вы можете себе представить католика, который делает химические исследования причастия? Или православного священника, который выясняет: а что там, какая химическая формула причастия?.. Это в голове не укладывается — как это? Это кощунство. Точно так же и здесь. Для пантеистического сознания Мир — это святыня…
С Анаксагором, помните, что сделали древние греки? Изгнали его из города — за что? За то, что он посмел предположить, что метеориты — это простые камни, падающие с небес. «Как?! Небо — это святыня… Это мир богов — какие там камни? Ты богохульник — вон из города…».
Так вот… для того чтобы можно было исследовать мир небес с помощью законов земной механики (то, что и начали делать Коперник, Галилей…), необходимо было основываться на сугубо христианском догмате о творении мира из ничего: мир планет не есть святыня… Он точно так же создан Богом, как и Земля. Опять же если вы вспомните какую‑нибудь концепцию Агни–йоги (там всякие планетные логосы, умные мыслящие планеты и так далее), там об этом говорить нельзя. А здесь…
Кто был первый учёный, который дерзнул предположить, что можно описывать движение планет с помощью земной механики? Имя вы знаете — вы не знаете, что это он. Это был Буридан (XIV век). Буридан, исходя именно из христианского догмата, заложил основу всей европейской последующей механики. Он сказал так:
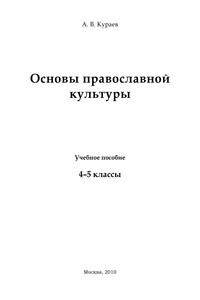
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
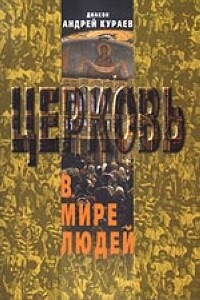
Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.
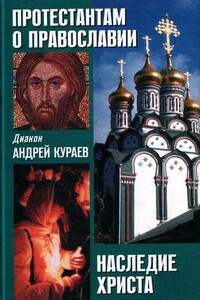
Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
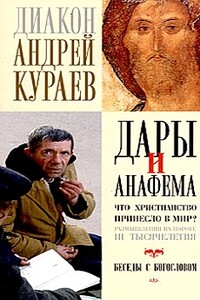
Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.
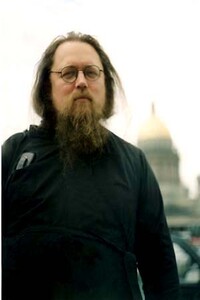
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
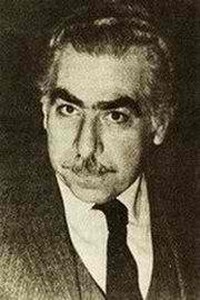
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.