Колебания - [113]
Теперь же, когда Лиза решилась вдруг на невозможное — на попытку перебраться через стену — Яна была и горда, и рада, и испугана. Истеричной и болезненной части её души польстило это; в той, которая тянулась к людям, чувствам и возможности понимания, засветилась радость; трусость и привычка рождали страх. Всё это отразилось в её глазах слишком явно, когда она взглянула непроизвольно на Лизу. Всё это было таким очевидным, что та даже остановилась, не договорив. Между ними как будто состоялся в тот момент странный, необъяснимый диалог душ, и Лиза готова была бы поклясться, что действительно слышала каждое слово. Она как будто спросила: «Но почему, почему ты молчала?», а Яна ответила: «Потому что мои надежды были слишком призрачными и пугающими даже меня саму, потому что я знала, что ты не сможешь ничем помочь, потому что боялась обсуждать то, что лишь планировала осуществить; я помнила наставление: „Никогда не хвастайся своим будущим“. Я помнила и другое наставление: „Silentium“. И я знала, что это крест, который должна нести сама. И если бы время повторилось заново хоть тысячу раз, я бы всё сделала так же». Это заняло секунды, и, моргнув, вслух Яна только сказала — со всей чувствуемой в этом силой искренности, которая не могла ещё облечься в другие слова и потому выразилась в одном:
— Прости…
И этого действительно, как и учит религия или простейшая психология, в ту секунду оказалось достаточно. Одно это слово — и Лиза увидела перед собой человека, потерянного и оторванного от реальной жизни, человека болезненного, бесконечно одинокого и испуганного, нуждавшегося, как и все, в чуткости, внимании и любви; человека, который являлся врагом самому себе. Лиза забыла свою злость и страх так, будто из её жизни начисто стёрли прошедшие две недели. И книга, и молчание, и Холмиков — это уже казалось ничтожным, бессмысленным, а всё, что было важно, был этот живой человек. Малейшая возможность искренности, доверия со стороны Яны — в силу того, что прежде их не было совершенно — теперь, проявившись в одном этом слове, пробудили в душе у Лизы надежду, жалость и желание помогать. Простив Яну в одну секунду, она даже подумала, что и прощать-то нечего.
Яна же почувствовала, будто стена содрогнулась; ей уже не казалась невозможной мысль о том, чтобы по-настоящему кому-то открыться; на секунду она даже испугалась того, как это ей удавалось прежде всю тяжесть выносить в одиночку, в то время как всегда имелась эта возможность; однако путь был по-прежнему бесконечно долгим и мог в конце вновь привести её в ту же пустыню, из которой она теперь, собираясь с силами, решила выбраться. Кто знает, не окажется ли всё миражом? Но Яна сделала ещё один шажок по песку, — она наклонилась, вытащила из сумки экземпляр своей книги и дала его Лизе, не зная даже, какой ожидает реакции; она не могла быть уверена, что Лизе действительно всё известно откуда-то, но эта уверенность, как возникла с самой первой секунды, так никуда и не исчезала. Необходимо было тем не менее не довольствоваться этим молчаливым знанием, но как-то наконец действовать, проявлять свои чувства.
Лиза, едва увидев книгу, которую ей протягивали, могла бы сыграть в игру; все любили играть в эти игры. Она могла бы затаиться на время, выждать — к чему раскрывать все карты, не лучше ли посмотреть, как человек сам теперь станет действовать? Проверить его. Однако она не хотела больше ни игр, ни тайн, ни молчания. И потому, не дожидаясь путаных объяснений, неловких и сбивчивых слов, она сразу сама рассказала всё то, что случилось с ней, — и о книге, и о встрече с Холмиковым.
Лиза привычно увлеклась, а Яна слушала её молча — и, казалось, каждая вновь была в своей роли и всё возвратилось к исходной точке. Яна опять ощутила — бессилие перед огромной своей стеной, потерянность среди бесконечных песков лишают её равно надежды и желания выбираться. Пусть окружающие продолжают свои разговоры, рассказы… Она не умеет, не может. Ни за что она не расскажет всей правды, не вспомнит вслух о далёких осенних днях, когда возникло то чувство, из-за которого двумя годами позже она обдумывала отправку книги по совершенно другому адресу… Всё это, по-прежнему оставаясь ярким воспоминанием, при единственном слабом порыве рассказать, поделиться, тут же притворялось блёклым, неважным, нелепым эпизодом из прошлого — и кирпичики сыпались с неба, выстраивая новый ряд.
— Что там? О чём ещё я не знаю, а ты снова не станешь рассказывать?.. — услышала вдруг Яна.
Лизе была до смешного непривычна, чужда такая настойчивость; ей даже показалось на секунду, что она разговаривает с ребёнком или с по-настоящему нездоровым человеком. Но в этот раз, отыскав, наконец, способ, подобрав ключик, заметив то, что подействовало на Яну однажды, позволив ей заговорить, Лиза запомнила это и уже не упускала. Когда-то, думала она, это не понадобится; но до тех пор она готова была и настаивать, и расспрашивать — кто бы ни попытался убедить её, что она лишь идёт на поводу у болезненных прихотей.
Яне стало так стыдно, так стыдно в том числе и за радость, которую она испытала, услышав вопрос, за вечную свою неправильную потребность в абсолютном, невозможном каком-то взаимопонимании, за то, что одновременно она даже и этого страшилась, а того, что считала поверхностным, стремилась избежать. За всю эту сложность. Лизины слова, обращённые будто к больному, о котором заботятся, или к избалованной капризной девочке, звучали даже не странно, они звучали дико, пугающе; Яна понимала это — и, тихо рассказывая Лизе об осени второго курса, она действительно пообещала себе сделать всё, чтобы с каждым разом тех странных вынужденных слов становилось всё меньше и меньше, а её собственных, искренних и честных — всё больше.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
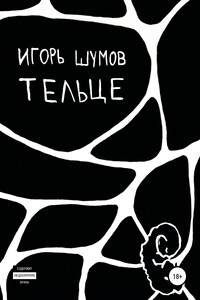
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).