Колебания - [112]
Тогда Лиза всё-таки встала, безучастно и бессильно, как призрак, чтобы такой же бледной тенью подняться наверх и уменьшить тем самым опасность, которая нависнет над ней при сдаче госэкзамена комиссии, состоящей из таких же, как и та, женщин… Однако кто-то коснулся её плеча.
Обернувшись, Лиза увидела Яну. Секунду они смотрели друг другу в глаза. Страх, неловкость, вина. В один миг Яна всё ощутила, и, хотя для неё, врущей окружающим на протяжении долгого времени, чувство стыда было уже совершенно привычным, теперь оно отчего-то словно усилилось, стало нестерпимее.
Молчание.
В один миг Яна всё поняла, хотя и отмахивалась ещё, по инерции, не решаясь взглянуть правде в глаза, поверить странной догадке.
Не так она представляла себе развязку истории, которую сама же и создала.
Бесконечным казалось количество дней, в которые так или иначе Яна врала окружающим; начавшееся миллион лет назад, враньё это стало уже таким огромным, что продолжало разрастаться и после того, как призрачная цель обрела форму и вес, то есть осуществилась; единственный смысл, который прежде хотя бы как-то угадывался в суеверном длительном молчании, уже отсутствовал, но привычка оказалась настолько сильной, что Яна, каждый день давая себе обещание всё рассказать, вновь и вновь нарушала его. На помощь тому приходили «неподходящие случаи», «не то настроение» и «отсутствие времени», сменяющие друг друга в замкнутом круге. Ежедневно трудолюбиво выстраивая кирпичик за кирпичиком необъятную стену, Яна оказалась не в силах сломать её в один день. Она и не думала прежде, что успеет настолько отдалиться от Лизы и от мира вообще; она как будто ушла в глухую ночную пустыню, которая и всегда безмолвно манила её своей красотой и огромными звёздами в чёрном небе, — но дорога, по которой она попала туда, стёрлась, заметённая песками, когда Яна наконец обернулась.
У вранья её не было оправданий. Само оно являлось только следствием и свидетельством трусости. И всё, что оставалось внутри, — весь свет, сострадание, понимание, — не делали менее тяжёлым ни один из этих грехов — ни трусость, ни ложь. И также не важно было, о чём была эта ложь и в чём заключалась трусость.
Когда же вдруг зазвучал её голос, она удивилась этому, не узнала его. Спокойно и уверенно этот голос спросил:
— Что-то случилось?
Это было жестоко, неправильно, жалко и глупо, и Яне стало только ещё более стыдно — но и этого оказалось недостаточно, чтобы сломать стену или разглядеть среди песков дорогу.
Ничего не стоили ни её очерки, ни вся книга, ни единственная строчка в ней, ни одна слеза, пролитая над размышлениями о хрупкости жизни и о чувствах абстрактных людей всего мира, которых Яна и не знала. Всё это было смешно и пошло и не приносило ничего хорошего в настоящей, живой жизни, настоящим, живым людям.
Голос, тем временем, задал новый вопрос:
— Не хочешь рассказать?
Яна готова была задушить себя, только бы исчезла самая возможность того, что она вновь произнесёт что-то такое же отвратительно жалкое, трусливое и банальное.
Она совершенно спокойно взглянула на Лизу.
— Рассказать? — не сразу переспросила та. — Ты спрашиваешь меня, не хочу ли я рассказать? — слова вырвались наконец наружу, более ничем не сдерживаемые. — Все четыре года я только и делаю, что рассказываю, все наши разговоры — это мои истории, а о тебе я не знаю ничего, никогда не знала, то есть буквально: я даже представить не могу, чем ты занималась, например, вчера или неделю назад. Хуже всего, что ты, изучив меня, узнав, стала использовать мои склонности в своих целях: чтобы продолжать молчать, ты задаёшь мне всё новые и новые вопросы, и я сама не замечаю, как продолжаю говорить и говорить!.. Во мне не осталось даже и благодарности за твоё нечеловеческое умение слушать, Яна! Во мне только страх и непонимание, страх и обида — я и сама, я сама, не замечая, увлекаясь, попадаясь на твои уловки… — Лиза не договорила, прерванная вдруг тем, что Яна взглянула ей прямо в глаза.
Она слушала Лизу молча, опустив голову, полная всё той же бессильной тоски. Она давно уже ожидала подобных слов, но не верила по-настоящему, что однажды услышит их, и никогда не знала, что бы она ответила. Всё, что было в ней эгоистичного, истеричного и капризного, ожило теперь, всколыхнулось, почувствовав возможность проявиться; в глубине души Яна торжествовала и праздновала — наконец кто-то попытался перебраться через ту стену, которую она сама же и выстроила, наконец кто-то решил проявить настойчивость; она, умалчивая обо всём и скрываясь от всех, болезненно мечтала о том, чтобы её остановили; ей нужны были доказательства того, что она действительно много значит для окружающих. К своим чувствам и мыслям она относилась щепетильно, носилась с ними, как с ребёнком, заранее обижаясь, что у людей они могут не вызвать должного интереса. Всё это Яна хорошо знала и не любила в себе, однако и изменить не пыталась. Бόльшую часть времени она была занята решением иных вопросов, последний год — обдумыванием мыслей и чувств выдуманных персонажей. Она оставила реальный мир далеко, и даже до собственной души добраться теперь могла лишь с трудом. Периодически свою способность молчать Яна считала жертвенностью, альтруизмом; она готова была бесконечно слушать другого человека и помогать ему, ни словом не обмолвившись о себе. Иногда она догадывалась, что это лишь больший эгоизм. Но нежелание людей расспрашивать её вопреки молчанию Яна всё равно расценивала не как тактичность, а как равнодушие; она знала, что не все секреты должны действительно оставаться секретами. Она мечтала о глубинном, о практически невозможном понимании, о проникновении в самую душу человека, на дно его бесконечного одиночества, туда, куда пути нет; она хотела, чтобы её слушали и расспрашивали так же, как слушала и расспрашивала она. Однако с годами всё это, не встречая отклика в реальной жизни, в душе у Яны переросло в нечто почти нездоровое, и она привыкла к тишине настолько, что болезненно боялась нарушить её хоть одним звуком; от одной возможности того, что кто-то узнал бы о её мыслях, ей становилось неприятно и тяжело, даже стыдно; Яне хотелось закрыться от всех, разговоры о себе словно вытягивали из неё силу, оставляли после лишь пустоту и сожаление; проблема оставалась, а слова разлетались по воздуху и исчезали, не отразив к тому же и приблизительно той мысли, которая была у Яны. Не то было с текстом, в котором любому образу, любой мысли удавалось, подобрав точные слова, придать форму, и тем самым зафиксировать их навечно, извлечь из небытия. Тогда душа очищалась. Яне, несмотря на всю тяжесть, было проще оставаться лишь призраком среди живых людей. Никто не знал её по-настоящему — и в этом была её главная слабость, но и главная сила.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
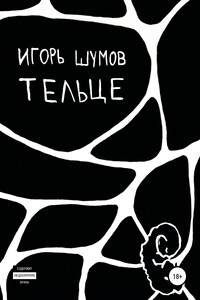
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).